Журнал Юридического менеджмента об управлении в юридической сфере
По существу
статьи
/ по существу /
Как снизить в 20 раз количество запросов без LegalTech меньше чем за полгода?
Автор: Константин Голубенко, руководитель отдела юридического сопровождения UpTime Management, управляющей организации хостинг-провайдеров TimeWeb, колумнист клуба «LOCos»

Что случилось и почему вам стоит это прочесть до конца
Представьте: Вы открываете свою основную рабочую систему и видите, что количество запросов настолько большое, что у Вас опускаются руки. Или, даже если руки всё ещё на месте, Вы издаёте тяжёлый, обречённый вздох. Знакомо?
Если да — вам точно сюда. Мы столкнулись с такой ситуацией в феврале 2025 года, когда увидели, что у нас одномоментно в работе находится 1 500 запросов: от жалоб «мониторов» по исключительным правам до запросов на выдачу справок клиентам и даже проведения сверки расчётов.
Представьте: Вы открываете свою основную рабочую систему и видите, что количество запросов настолько большое, что у Вас опускаются руки. Или, даже если руки всё ещё на месте, Вы издаёте тяжёлый, обречённый вздох. Знакомо?
Если да — вам точно сюда. Мы столкнулись с такой ситуацией в феврале 2025 года, когда увидели, что у нас одномоментно в работе находится 1 500 запросов: от жалоб «мониторов» по исключительным правам до запросов на выдачу справок клиентам и даже проведения сверки расчётов.
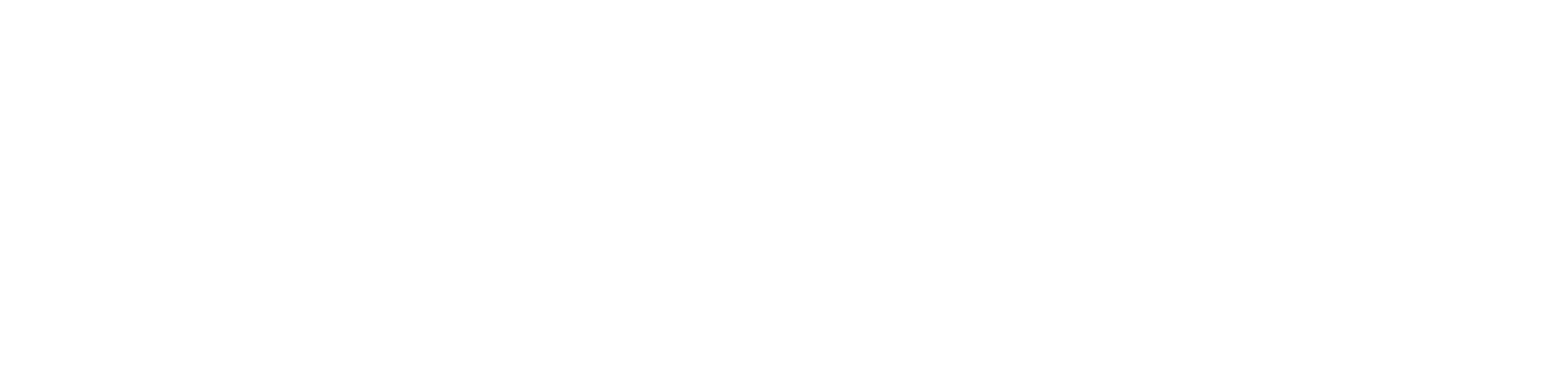
Вот так выглядит часть общей очереди запросов в нашей системе. Белым «заблюрено» из-за NDA (0 % осуждения, 100 % понимания). А теперь представьте, что таких запросов более 1 500!
Мы поняли, что так продолжаться не может, и начали думать, что с этим делать. У нас нет миллиардов рублей на проекты по LegalTech с AI — не говоря уже о том, что реализация таких проектов неизбежно потребует нашего включения, а это ещё и дополнительная нагрузка.
Но мы также понимали, что у нас есть и другие инструменты, с помощью которых мы можем изменить ситуацию.
Шаг первый — ресурс и анализ
Конечно, в такой ситуации первая антикризисная мера — наращивание ресурса. Мы сделали это за счёт введения норматива: 30−50 запросов на один рабочий день при сохранении нагрузки по другим задачам. Да, у всех нагрузка подскочила, и, объективно, увеличение объёма работы для любого сотрудника — это стресс.
Но при этом, чтобы сгладить более острые углы, мы сделали так, что из этого норматива не было исключений в команде: запросы рассматривают даже те, у кого формально позиция — «руководитель».
Параллельно мы начали анализировать запросы и оценивать риски, то есть весь процесс as is. Что удалось получить:
Мы поняли, что так продолжаться не может, и начали думать, что с этим делать. У нас нет миллиардов рублей на проекты по LegalTech с AI — не говоря уже о том, что реализация таких проектов неизбежно потребует нашего включения, а это ещё и дополнительная нагрузка.
Но мы также понимали, что у нас есть и другие инструменты, с помощью которых мы можем изменить ситуацию.
Шаг первый — ресурс и анализ
Конечно, в такой ситуации первая антикризисная мера — наращивание ресурса. Мы сделали это за счёт введения норматива: 30−50 запросов на один рабочий день при сохранении нагрузки по другим задачам. Да, у всех нагрузка подскочила, и, объективно, увеличение объёма работы для любого сотрудника — это стресс.
Но при этом, чтобы сгладить более острые углы, мы сделали так, что из этого норматива не было исключений в команде: запросы рассматривают даже те, у кого формально позиция — «руководитель».
Параллельно мы начали анализировать запросы и оценивать риски, то есть весь процесс as is. Что удалось получить:
Обнаружили массовые дублирования запросов.
Например, нам писали неделю назад, а спустя ещё неделю мы получали идентичный запрос с тем же содержанием.
Нашли ещё около десятка однотипных запросов, по которым не было шаблонов.
Да, при объёме более 55 тысяч запросов в год шаблоны ответов неизбежны. Но мы точно за то, чтобы шаблоны были эффективными, позволяли корректно донести суть нашего запроса или ответа и основывались как на нормах закона, так и на актуальной судебной практике.
Нашли целый пул запросов, которые вообще не относились к нашей команде.
Например, наша команда не занимается удалением данных по запросам клиентов (этим занимается другая команда), не проводит сверки расчётов, не предоставляет первичные документы — но все эти запросы попадали к нам.
По части запросов мы объективно не могли помочь.
В частности, это были запросы, касающиеся ограничений доступа к контенту на сайте, который хостился не у нас. Так, только от одного правообладателя мы с сентября 2024 по апрель 2025 года получили 632 (!) запроса по сайту, который размещался не у нас (!!!). В среднем — 79 запросов в месяц.
Ещё у нас было много совершенно бесполезных спам-сообщений с рекламой сертификаций и даже какого-то медного оборудования.
Шаг второй — редизайн и оптимизация
Если есть проблемы — значит, есть и решения (как сейчас модно говорить — to be).
Что мы начали делать:
Если есть проблемы — значит, есть и решения (как сейчас модно говорить — to be).
Что мы начали делать:
1
Закрывать дублирующие запросы с отсылкой на те, что уже находятся в работе.
2
Создавать шаблоны под новые типовые запросы.
В настоящее время у нас разработано более 40 шаблонов на русском и английском языках, которые работают очень просто: мы нажимаем кнопку в нашей системе — и шаблон сразу вставляется в текст ответа. Большая часть шаблонов вообще не требует дополнительных действий со стороны юриста.
3
Провести редизайн действующих шаблонов ответов.
Например, в некоторых из них требовалось несколько раз вставлять название сайта и другую информацию. Как мы это исправили: пересобрали шаблоны так, что сайт упоминается один раз в самом начале, ввели сокращение «(далее — Сайт)», после чего в шаблоне уже не приходится искать глазами, что и куда ещё нужно добавить. Вот маленький пример того, как мы создавали новые шаблоны для компании группы, которая является регистратором доменных имён:
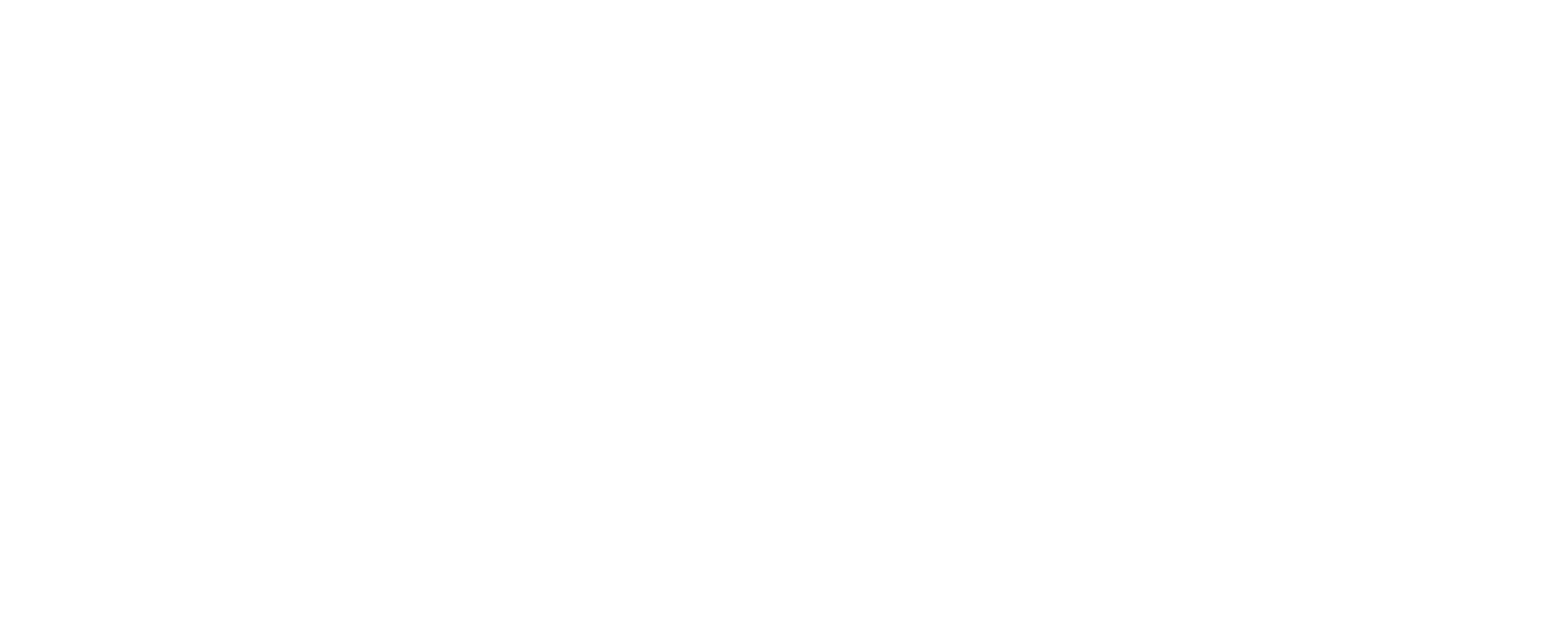
Сначала определяем, что шаблона нет (левая колонка). Потом объясняем, почему он важен (вторая колонка), и далее формируем проект. При этом каждый проект шаблона обсуждается командой и финально утверждается руководителем департамента. Да, можно было бы заморочиться и посчитать, сколько таких запросов в неделю мы получаем, но мы здесь осознанно упростили себе жизнь и приняли за факт: такие запросы поступают слишком часто, чтобы по ним не появилась аргументированная «паста».
Почему шаблон называется «пастой»? Потому что даже здесь мы хотим видеть что-то более элегантное, чем бездушный «скрипт».
Почему шаблон называется «пастой»? Потому что даже здесь мы хотим видеть что-то более элегантное, чем бездушный «скрипт».
4
По запросам, связанным с сайтами, которые хостятся не у нас, мы решили вопрос без участия системы.
Через коллег связались напрямую с правообладателем и попросили в системе снять привязку этого сайта к нам. Правообладатель снял эту привязку, и мы перестали получать такие запросы. Соответственно, здесь решение мы нашли за пределами периметра нашей компании — и иногда действительно решения ваших проблем могут находиться не у вас, а в инструментарии здорового нетворкинга.
Кстати, если тот, кто помог нам, будет это читать — спасибо вам огромное за то, что помогли связаться! Был ли у нас план на случай отказа правообладателя? Конечно!
Итог: мы снизили количество запросов на 79 в месяц. Да, на фоне 1 500 запросов это не так уж много, но даже такие небольшие шаги оптимизации со временем снижают нагрузку и высвобождают ресурс.
Кстати, если тот, кто помог нам, будет это читать — спасибо вам огромное за то, что помогли связаться! Был ли у нас план на случай отказа правообладателя? Конечно!
Итог: мы снизили количество запросов на 79 в месяц. Да, на фоне 1 500 запросов это не так уж много, но даже такие небольшие шаги оптимизации со временем снижают нагрузку и высвобождают ресурс.
5
По спаму: мы начали активно использовать спам-фильтр — и спама стало меньше.
А что дальше?
К концу июня 2025 года мы сумели снизить общее число запросов с более чем 1 500 до того уровня, который вы видите ниже:
К концу июня 2025 года мы сумели снизить общее число запросов с более чем 1 500 до того уровня, который вы видите ниже:
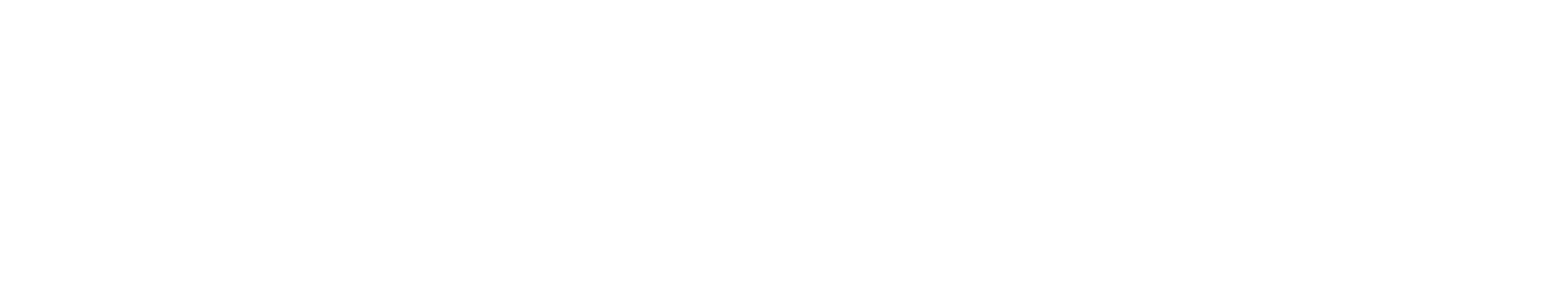
Считаем, что это — успех!
Но в то же время наша команда понимает, что количество решений с точки зрения оптимизации процесса обработки запросов и инструментов legal design стало меньше.
К тому же в июле 2025 года мы начали сталкиваться с тем, что из-за отпусков удельное количество запросов неизбежно увеличивается.
Но мы смотрим на это спокойно, ведь у нас открылись новые возможности:
Но в то же время наша команда понимает, что количество решений с точки зрения оптимизации процесса обработки запросов и инструментов legal design стало меньше.
К тому же в июле 2025 года мы начали сталкиваться с тем, что из-за отпусков удельное количество запросов неизбежно увеличивается.
Но мы смотрим на это спокойно, ведь у нас открылись новые возможности:
Автоматизировать часть работы с типовыми запросами.
Именно поэтому мы уже согласовали и утвердили техническое задание и передали в команду разработки большую задачу по автоматизации обработки запросов с одним из регуляторов. Если очень кратко: после реализации за нами останется только контроль корректности работы системы, а всё то, что сейчас выполняется вручную, будет исключено. Это позволит нам высвободить более 1 FTE.
Пересмотреть политики взаимодействия с некоторыми инициаторами.
При детальном анализе части запросов мы заметили, что некоторые из них не были основаны на документах или реальных доказательствах нарушений исключительных прав, но при этом содержали требования выплаты денежных средств. Мы тестово начали запрашивать документы, подтверждающие полномочия и факты нарушений, но не получали их. В то же время мы начали получать от клиентов подтверждения правомерности использования контента. Как итог — сейчас мы предметно рассматриваем возможность создания аналога black-list для недобросовестных IP-мониторов, по которым мы неоднократно фиксировали заведомо необоснованные требования.
Продолжить работу по оптимизации процесса обработки запросов.
Но об этом — в следующих выпусках)
В завершение возвращаемся к основам
Некоторые читатели могли заметить, что здесь мы пошли через концепт Legal Design (в части работы с формами ответов и их развитием), LegalOps (в части обследования процесса, поиска лишнего и последующего устранения обнаруженных зон роста).
И мы уже использовали этот подход раньше. Ещё в мартовском номере «По существу» мы рассказывали Вам про базис Legal Design ➞ LegalOps ➞ LegalTech на примере процесса выдачи справок о местоположении серверов.
Так вот, с того времени наша команда успела внести ещё одну доработку: добавили возможность вручную указывать данные IP и адреса дата-центра, помогли подготовить гайды для команд отдела информационной поддержки и собрали аналитику.
Итого: за неполные 7 месяцев 2025 года наши коллеги из команды информационной поддержки вместе с нами успели выдать почти 400 (!) справок, тогда как за 11 месяцев 2024 года было выдано всего 117 справок.
Соответственно, нагрузка по справкам в 2025 году уже выросла более чем в 3 раза, но благодаря автоматизации и тому, что мы решились поделиться процессом с командами информационной поддержки, нагрузка на юристов стремительно приближается к нулю. Сейчас юристы подключаются только при нетиповых запросах, но уже не создают справки сами — «с нуля».
Как итог: мы ожидаем рост количества запросов по справкам в 6 раз к концу этого года, но при этом не ждём роста нагрузки на юристов.
В общем, как видите, концепт Legal Design ➞ LegalOps ➞ LegalTech — универсален и эффективен. Как и мы!
Некоторые читатели могли заметить, что здесь мы пошли через концепт Legal Design (в части работы с формами ответов и их развитием), LegalOps (в части обследования процесса, поиска лишнего и последующего устранения обнаруженных зон роста).
И мы уже использовали этот подход раньше. Ещё в мартовском номере «По существу» мы рассказывали Вам про базис Legal Design ➞ LegalOps ➞ LegalTech на примере процесса выдачи справок о местоположении серверов.
Так вот, с того времени наша команда успела внести ещё одну доработку: добавили возможность вручную указывать данные IP и адреса дата-центра, помогли подготовить гайды для команд отдела информационной поддержки и собрали аналитику.
Итого: за неполные 7 месяцев 2025 года наши коллеги из команды информационной поддержки вместе с нами успели выдать почти 400 (!) справок, тогда как за 11 месяцев 2024 года было выдано всего 117 справок.
Соответственно, нагрузка по справкам в 2025 году уже выросла более чем в 3 раза, но благодаря автоматизации и тому, что мы решились поделиться процессом с командами информационной поддержки, нагрузка на юристов стремительно приближается к нулю. Сейчас юристы подключаются только при нетиповых запросах, но уже не создают справки сами — «с нуля».
Как итог: мы ожидаем рост количества запросов по справкам в 6 раз к концу этого года, но при этом не ждём роста нагрузки на юристов.
В общем, как видите, концепт Legal Design ➞ LegalOps ➞ LegalTech — универсален и эффективен. Как и мы!
Семь шляп юриста будущего: кем ты должен быть, чтобы не проиграть ИИ
Автор: Виталий Веселов, начальник отдела Управления судебной защиты ПАО «Банк ПСБ»

«Мир меняется быстрее, чем закон. Что делать юристу? Надевать новые „шляпы“. В этой статье — семь ролей, которые делают юриста незаменимым в эпоху ИИ».
Когда-то от юриста ожидали хорошего знания закона и умения его применять: договор согласован, риски проверены, иск подан. Всё чётко, последовательно и по шаблону.
Но в последние годы профессия начала меняться быстрее, чем успевают обновляться законы. У юриста появляются новые задачи: автоматизировать процессы, внедрять LegalTech, понимать аналитику, выстраивать карьерные треки в команде. Где-то уже вовсю работает ИИ, а где-то от юриста ждут цифровых инструментов и управленческого мышления.
В современном мире одной только юридической экспертизы уже недостаточно. Сегодня востребован юрист, который умеет быть и стратегом, и аналитиком, и переговорщиком, и даже немного айтишником.
Ты вроде как всё ещё юрист, но всё чаще ощущаешь, что на тебе не одна, а целая полка разных шляп: то ты переговорщик, то проектный менеджер, то почти психолог и медиатор, то технический консультант.
И вот тут начинается самое интересное: сегодня быть юристом — это не про «следовать инструкции», а про то, какие «шляпы» ты умеешь надевать и насколько уверенно в них двигаешься.
Я собрал семь таких «шляп», которые уже носят сильные юристы. Эти роли — не фантазия, а ответ на реальные вызовы. Они помогают быть нужным, гибким и полезным. Помогают не просто «не бояться», что нас заменит ИИ, а использовать его себе во благо.
Когда-то от юриста ожидали хорошего знания закона и умения его применять: договор согласован, риски проверены, иск подан. Всё чётко, последовательно и по шаблону.
Но в последние годы профессия начала меняться быстрее, чем успевают обновляться законы. У юриста появляются новые задачи: автоматизировать процессы, внедрять LegalTech, понимать аналитику, выстраивать карьерные треки в команде. Где-то уже вовсю работает ИИ, а где-то от юриста ждут цифровых инструментов и управленческого мышления.
В современном мире одной только юридической экспертизы уже недостаточно. Сегодня востребован юрист, который умеет быть и стратегом, и аналитиком, и переговорщиком, и даже немного айтишником.
Ты вроде как всё ещё юрист, но всё чаще ощущаешь, что на тебе не одна, а целая полка разных шляп: то ты переговорщик, то проектный менеджер, то почти психолог и медиатор, то технический консультант.
И вот тут начинается самое интересное: сегодня быть юристом — это не про «следовать инструкции», а про то, какие «шляпы» ты умеешь надевать и насколько уверенно в них двигаешься.
Я собрал семь таких «шляп», которые уже носят сильные юристы. Эти роли — не фантазия, а ответ на реальные вызовы. Они помогают быть нужным, гибким и полезным. Помогают не просто «не бояться», что нас заменит ИИ, а использовать его себе во благо.
Юрист-дирижёр: как управлять хаосом и укладываться в дедлайны
Раньше юрист работал «за шторой»: корректировал договоры, искал нужные статьи и почти не выходил на сцену. Сегодня всё иначе. Договор — это только вершина айсберга, а под водой — процессы, которые запускают, изменяют и трансформируют бизнес.
Проектный менеджмент для юриста — не просто составление графиков и диаграмм, но и способность управлять сложными задачами. Современные юридические задачи стали уравнением с множеством переменных: тут юристы, там бизнес, потом финансы, ещё комплаенс и технологии. Всё должно совпасть — и желательно в установленные сроки.
Компания внедряет новую платформу по управлению договорами. Кто должен описать, какие шаблоны нужны? Кто расскажет IT, что такое clause library (библиотека предварительно одобренных условий контрактов) и как юристы классифицируют условия аренды? Кто выстроит процесс от запроса до подписания? Это точно не разработчик и не классический юрист. Это «дирижёр» проекта.
Такой юрист не паникует при словах «дедлайн», «стейкхолдер», «итерация» и "доставка ценности". Он знает, как увязать юридические риски с задачами IT, с бюджетом у финдиректора и ожиданиями бизнеса. Он фасилитирует совещания, управляет конфликтами, ведёт трекер задач и знает, как убедить юриста и маркетолога сесть за один стол и договориться.
ИИ, каким бы умным он ни был, не умеет координировать людей. Он не чувствует, когда переговоры заходят в тупик. Он не умеет балансировать между «идеально по закону» и "приемлемо по понятиям". А юрист-проектник умеет.
Юрист — не просто управленец. Он дирижёр, который не только видит всю партитуру, но и знает, как сыграть её слаженно и вовремя.
Раньше юрист работал «за шторой»: корректировал договоры, искал нужные статьи и почти не выходил на сцену. Сегодня всё иначе. Договор — это только вершина айсберга, а под водой — процессы, которые запускают, изменяют и трансформируют бизнес.
Проектный менеджмент для юриста — не просто составление графиков и диаграмм, но и способность управлять сложными задачами. Современные юридические задачи стали уравнением с множеством переменных: тут юристы, там бизнес, потом финансы, ещё комплаенс и технологии. Всё должно совпасть — и желательно в установленные сроки.
Компания внедряет новую платформу по управлению договорами. Кто должен описать, какие шаблоны нужны? Кто расскажет IT, что такое clause library (библиотека предварительно одобренных условий контрактов) и как юристы классифицируют условия аренды? Кто выстроит процесс от запроса до подписания? Это точно не разработчик и не классический юрист. Это «дирижёр» проекта.
Такой юрист не паникует при словах «дедлайн», «стейкхолдер», «итерация» и "доставка ценности". Он знает, как увязать юридические риски с задачами IT, с бюджетом у финдиректора и ожиданиями бизнеса. Он фасилитирует совещания, управляет конфликтами, ведёт трекер задач и знает, как убедить юриста и маркетолога сесть за один стол и договориться.
ИИ, каким бы умным он ни был, не умеет координировать людей. Он не чувствует, когда переговоры заходят в тупик. Он не умеет балансировать между «идеально по закону» и "приемлемо по понятиям". А юрист-проектник умеет.
Юрист — не просто управленец. Он дирижёр, который не только видит всю партитуру, но и знает, как сыграть её слаженно и вовремя.
Что нужно уметь:
- Scrum и Kanban — не модные слова, а реальные инструменты управления юридическими задачами.
- Фасилитация — не про «поболтали и разбежались», а про «команда ушла с решением».
- Проектное мышление — умение видеть не договор, а процесс от идеи до подписания.
- Коммуникация со стейкхолдерами — чтобы юридическая логика встречалась с бизнес-реальностью.
Юрист как аналитик и переводчик с языка данных на язык решений
Раньше юрист опирался на опыт, практику, чутьё и пару проверенных источников, а сегодня этого уже мало. В наше время данные стали новой нефтью, а юридическая функция — её добытчиком и переработчиком. Когда И И анализирует сотни судебных решений — кто оценит их актуальность? Когда BI-система показывает рост расходов на внешних консультантов — кто определит причину: ставки, задачи или неэффективный брифинг?
Юрист-аналитик — это не просто специалист по работе с таблицами Excel. Это партнёр, который может показать бизнесу, как юридические риски влияют на выручку, как досудебная работа снижает нагрузку, а процессы комплаенса экономят миллионы.
В мире, где всё измеряется, юрист должен не просто знать, а уметь доказывать. Такой юрист не боится цифр. Он знает, что BI-дэшборд — не просто красивая игрушка, а орудие труда. Он показывает, как комплаенс снижает штрафы. Как судебные риски бьют по выручке. Как SLA в договоре влияет на лояльность клиента. Он превращает юридическую функцию из чёрной коробки в понятный и измеримый бизнес-инструмент.
ИИ умеет считать быстрее и точнее человека, но он не знает, что считать и зачем. Он не может сопоставить новую волну судебных споров с запуском нового продукта, увидеть зависимость между кадровыми сокращениями и ростом трудовых споров, отследить юридическую причину финансовых потерь. Это искусство делать выводы — и оно по-прежнему принадлежит человеку.
Юрист-аналитик — не просто бухгалтер с дипломом юриста. Он стратег, который показывает, где право влияет на деньги, а где — и на выживание бизнеса.
Раньше юрист опирался на опыт, практику, чутьё и пару проверенных источников, а сегодня этого уже мало. В наше время данные стали новой нефтью, а юридическая функция — её добытчиком и переработчиком. Когда И И анализирует сотни судебных решений — кто оценит их актуальность? Когда BI-система показывает рост расходов на внешних консультантов — кто определит причину: ставки, задачи или неэффективный брифинг?
Юрист-аналитик — это не просто специалист по работе с таблицами Excel. Это партнёр, который может показать бизнесу, как юридические риски влияют на выручку, как досудебная работа снижает нагрузку, а процессы комплаенса экономят миллионы.
В мире, где всё измеряется, юрист должен не просто знать, а уметь доказывать. Такой юрист не боится цифр. Он знает, что BI-дэшборд — не просто красивая игрушка, а орудие труда. Он показывает, как комплаенс снижает штрафы. Как судебные риски бьют по выручке. Как SLA в договоре влияет на лояльность клиента. Он превращает юридическую функцию из чёрной коробки в понятный и измеримый бизнес-инструмент.
ИИ умеет считать быстрее и точнее человека, но он не знает, что считать и зачем. Он не может сопоставить новую волну судебных споров с запуском нового продукта, увидеть зависимость между кадровыми сокращениями и ростом трудовых споров, отследить юридическую причину финансовых потерь. Это искусство делать выводы — и оно по-прежнему принадлежит человеку.
Юрист-аналитик — не просто бухгалтер с дипломом юриста. Он стратег, который показывает, где право влияет на деньги, а где — и на выживание бизнеса.
Что делает тебя незаменимым:
- Power BI — чтобы не фантазировать, а видеть, где и как право влияет на деньги.
- Юридические KPI, OKR и SLA — не ради отчёта, а для управления ожиданиями.
- Претензионная аналитика — как способ видеть риски, а не тушить пожары.
- Storytelling через данные — чтобы графики не просто информировали, а убеждали.
Юрист как LegalTech-архитектор и переводчик между кодом и кодексом
Кодекс гласит: «Стороны обязуются…». Код говорит: if true, then send email. Встретятся ли они когда-нибудь? Да, если рядом окажется юрист, который говорит на обоих языках.
Сегодня LegalTech внедряется повсеместно — от конструкторов договоров до интеллектуального поиска судебной практики. Но за красивыми интерфейсами нужен кто-то, кто понимает суть и механику. Не просто «юрист» и «айтишник», а архитектор LegalTech.
Этот юрист не пишет код, но знает, как работает API. Он не разрабатывает чат-бота, но участвует в создании его логики: какие сценарии, какие правила и какие исключения. Он не диктует форму — он диктует правовую суть, которую должна передать форма.
Запускается система автоматического согласования договоров. Юрист-архитектор определяет: какие условия являются стандартными, какие требуют ручного согласования, какие вообще не должны проходить через систему без предварительной правовой оценки. Он объясняет, почему «сумма более 1 млн» — не всегда критерий риска, и почему в некоторых случаях важнее «предмет договора» или «контрагент из другой юрисдикции».
ИИ умеет автоматизировать. Однако если автоматизация не основана на юридически корректной логике, она придумывает риски, а не решает их. Только человек с правовым мышлением и техническим чутьём способен выстроить такую архитектуру, которая не противоречит закону и здравому смыслу.
LegalTech — это не замена, а усилитель. Для тех, кто умеет соединять право и процессы, здравый смысл и систему. Для тех, кто строит не просто интерфейсы, а мосты между логикой закона и скоростью машин.
Кодекс гласит: «Стороны обязуются…». Код говорит: if true, then send email. Встретятся ли они когда-нибудь? Да, если рядом окажется юрист, который говорит на обоих языках.
Сегодня LegalTech внедряется повсеместно — от конструкторов договоров до интеллектуального поиска судебной практики. Но за красивыми интерфейсами нужен кто-то, кто понимает суть и механику. Не просто «юрист» и «айтишник», а архитектор LegalTech.
Этот юрист не пишет код, но знает, как работает API. Он не разрабатывает чат-бота, но участвует в создании его логики: какие сценарии, какие правила и какие исключения. Он не диктует форму — он диктует правовую суть, которую должна передать форма.
Запускается система автоматического согласования договоров. Юрист-архитектор определяет: какие условия являются стандартными, какие требуют ручного согласования, какие вообще не должны проходить через систему без предварительной правовой оценки. Он объясняет, почему «сумма более 1 млн» — не всегда критерий риска, и почему в некоторых случаях важнее «предмет договора» или «контрагент из другой юрисдикции».
ИИ умеет автоматизировать. Однако если автоматизация не основана на юридически корректной логике, она придумывает риски, а не решает их. Только человек с правовым мышлением и техническим чутьём способен выстроить такую архитектуру, которая не противоречит закону и здравому смыслу.
LegalTech — это не замена, а усилитель. Для тех, кто умеет соединять право и процессы, здравый смысл и систему. Для тех, кто строит не просто интерфейсы, а мосты между логикой закона и скоростью машин.
Что нужно уметь:
- No-code/Low-code — не чтобы заменить программиста, а чтобы самому управлять логикой решений.
- UX для юристов — чтобы всё работало с первого клика, а не с третьей попытки и звонка в техподдержку.
- API и интеграции — понимать, как системы «разговаривают» между собой и где в этом диалоге место права.
- Автоматизация договоров — не ради галочки, а чтобы ускорять бизнес без потери контроля и качества.
- Мышление конструктора — видеть не просто отдельные функции, а то, как они складываются в устойчивую правовую архитектуру.
Юрист как HR-партнёр, садовник команды и куратор роста.
Раньше в юридический отдел приходили работать строго по регламенту: много задач, мало роста. Кто выжил — тот молодец. Никто не говорил про адаптацию, карьерные треки или эмоциональное выгорание. Сегодня это не просто прошлый век, а риск потерять всё.
Современный юрист — это ещё и менеджер командной динамики. Он видит в коллегах не просто исполнителей задач, а людей с потенциалом. Он умеет задать себе главный вопрос: «Кто передо мной и как ему помочь расти?»
Представьте юридический департамент из десяти человек, в котором трое — новички, двое выгорают, один хочет ходить в суды, другой — внедрять LegalTech, а ещё двое мечтают о новой работе и большой зарплате, но молчат. Классический руководитель этого не заметит до массовых увольнений. Юрист-HR-партнёр увидит тревожные сигналы, наладит обратную связь, проведёт карьерные сессии и начнёт движение.
Он создаёт живую, самообучающуюся, гибкую команду. Он внедряет онбординг, наставничество, проводит обзоры 1:1, строит матрицу компетенций, развивает soft skills. Он точно знает, какой должна быть сильная функция: мало знать право, нужно быть сильными вместе.
Машина не способна чувствовать мотивацию. Она не подскажет, кого пора похвалить, а кому нужно временно снизить нагрузку. ИИ не создаёт культуру — он работает внутри неё. А культуру создают люди — такие, как мы.
Тот, кто умеет растить, оставляет после себя сад. А в этом саду вырастают юристы, сильные команды и будущее профессии.
Раньше в юридический отдел приходили работать строго по регламенту: много задач, мало роста. Кто выжил — тот молодец. Никто не говорил про адаптацию, карьерные треки или эмоциональное выгорание. Сегодня это не просто прошлый век, а риск потерять всё.
Современный юрист — это ещё и менеджер командной динамики. Он видит в коллегах не просто исполнителей задач, а людей с потенциалом. Он умеет задать себе главный вопрос: «Кто передо мной и как ему помочь расти?»
Представьте юридический департамент из десяти человек, в котором трое — новички, двое выгорают, один хочет ходить в суды, другой — внедрять LegalTech, а ещё двое мечтают о новой работе и большой зарплате, но молчат. Классический руководитель этого не заметит до массовых увольнений. Юрист-HR-партнёр увидит тревожные сигналы, наладит обратную связь, проведёт карьерные сессии и начнёт движение.
Он создаёт живую, самообучающуюся, гибкую команду. Он внедряет онбординг, наставничество, проводит обзоры 1:1, строит матрицу компетенций, развивает soft skills. Он точно знает, какой должна быть сильная функция: мало знать право, нужно быть сильными вместе.
Машина не способна чувствовать мотивацию. Она не подскажет, кого пора похвалить, а кому нужно временно снизить нагрузку. ИИ не создаёт культуру — он работает внутри неё. А культуру создают люди — такие, как мы.
Тот, кто умеет растить, оставляет после себя сад. А в этом саду вырастают юристы, сильные команды и будущее профессии.
Что делает тебя наставником:
- Карьерные треки — не для презентации, а чтобы сильные оставались в команде.
- 1:1 встречи — чтобы слышать, а не только оценивать.
- Обратная связь — как точка роста, а не акт демотивации.
- Командная динамика — замечать, кто выгорает, кто вызревает, а кто готов взлететь.
- Наставничество — не «удел старших», а повседневная инвестиция в команду.
Юрист как психолог — переговорщик эмоций и доверия
Юрист и психология? Звучит как оксюморон: там — кодексы и нормы, тут — чувства и страхи. Но именно в этих чувствах сегодня решаются договоры, команды и репутации. Закон — это про чёрное и белое, а психология — про оттенки. И именно эти оттенки сегодня определяют судьбу договоров, команд и даже репутаций.
Юрист, работающий с людьми, сталкивается не только с фактами, но и с эмоциями. Переговоры на грани увольнения, трудовой спор, внутренняя проверка, претензия от крупного клиента, который чувствует себя обманутым. Здесь мало знать, что «пункт 5.3 договора соблюдён». Здесь важно чувствовать: что происходит в голове собеседника? Чего он боится? К чему готов?
Руководитель собирается уволить сотрудника, но тревожится: тот «взорвёт» команду, подаст жалобу в инспекцию, обратится с иском в суд, устроит скандал. Юрист с чисто формальной логикой начнёт цитировать Трудовой кодекс и описывать заключение о реализации рисков с вероятностью 81−100%. Юрист-психолог сначала выслушает, поймёт страх, наметит сценарий, при котором никто не теряет лицо.
В другой ситуации юрист выходит на переговоры с партнёром, который откровенно агрессивен, срывается, давит, манипулирует. Формально — всё правильно, но формально здесь не сработает. И только тот, кто умеет читать невербальные сигналы, снижать напряжение, видеть за позицией интерес, — тот и приведёт к решению, а не к взрыву.
ИИ может предложить шаблонное решение. Может даже сымитировать вежливость и эмпатию. Но он не знает, что значит «напряжение в голосе». Он не чувствует неловкость в паузе, не замечает дрожь в руках, не слышит усталость в «ладно, давайте попробуем». А юрист-психолог — слышит и чувствует. И это делает его сильнее любого алгоритма.
Юрист, понимающий природу стресса, умеющий слушать, задавать вопросы, распознавать невербальные сигналы, обладает оружием мощнее любого шаблона и договора — доверием. А его не заменит никакой ИИ.
Юрист и психология? Звучит как оксюморон: там — кодексы и нормы, тут — чувства и страхи. Но именно в этих чувствах сегодня решаются договоры, команды и репутации. Закон — это про чёрное и белое, а психология — про оттенки. И именно эти оттенки сегодня определяют судьбу договоров, команд и даже репутаций.
Юрист, работающий с людьми, сталкивается не только с фактами, но и с эмоциями. Переговоры на грани увольнения, трудовой спор, внутренняя проверка, претензия от крупного клиента, который чувствует себя обманутым. Здесь мало знать, что «пункт 5.3 договора соблюдён». Здесь важно чувствовать: что происходит в голове собеседника? Чего он боится? К чему готов?
Руководитель собирается уволить сотрудника, но тревожится: тот «взорвёт» команду, подаст жалобу в инспекцию, обратится с иском в суд, устроит скандал. Юрист с чисто формальной логикой начнёт цитировать Трудовой кодекс и описывать заключение о реализации рисков с вероятностью 81−100%. Юрист-психолог сначала выслушает, поймёт страх, наметит сценарий, при котором никто не теряет лицо.
В другой ситуации юрист выходит на переговоры с партнёром, который откровенно агрессивен, срывается, давит, манипулирует. Формально — всё правильно, но формально здесь не сработает. И только тот, кто умеет читать невербальные сигналы, снижать напряжение, видеть за позицией интерес, — тот и приведёт к решению, а не к взрыву.
ИИ может предложить шаблонное решение. Может даже сымитировать вежливость и эмпатию. Но он не знает, что значит «напряжение в голосе». Он не чувствует неловкость в паузе, не замечает дрожь в руках, не слышит усталость в «ладно, давайте попробуем». А юрист-психолог — слышит и чувствует. И это делает его сильнее любого алгоритма.
Юрист, понимающий природу стресса, умеющий слушать, задавать вопросы, распознавать невербальные сигналы, обладает оружием мощнее любого шаблона и договора — доверием. А его не заменит никакой ИИ.
Что помогает тебе быть услышанным:
- Эмпатия — не просто «понять», а почувствовать, что стоит за словами.
- Медиация — не уговорить, а помочь сторонам увидеть друг друга.
- Сложные переговоры — не продавить, а провести до результата.
- Психологическая устойчивость — быть опорой, когда у всех дрожит земля под ногами.
Юрист как менеджер знаний — библиотекарь XXI века
Знание в юриспруденции — это валюта. Оно ценно, только если его можно передать. Но в отличие от денег, знание не лежит в сейфе. Оно рассыпано: по головам сотрудников, чатам, письмам, «вон в том файле 2019 года», в устных рассказах — «а вот как мы делали в прошлом споре».
И вот наступает день, когда уходит ключевой юрист. Вместе с ним — полгода судебной практики, шаблоны писем, уникальный подход к работе с конкретным регулятором. И всё это канет в летаргическую папку на диске G:/Архив/2021.
Юрист-менеджер знаний видит это иначе. Он знает: каждая выработанная правовая позиция, каждый полезный шаблон, каждая победа в суде — это капитал. И этот капитал нужно не просто сохранить, а превратить в инструмент роста всей команды.
Он создаёт внутренние базы знаний. Настраивает классификацию документов. Объясняет: что, где и зачем хранить. Он превращает «мессенджер с хаосом» в wiki с логикой и оглавлением. Делает опыт доступным и воспроизводимым.
ИИ может обучаться, но без организованного знания он остаётся слеп. Ему нужен порядок, структура, системность. А юрист, который это создаёт, становится не просто носителем опыта, а его архитектором.
В команде, где есть юрист-менеджер знаний, новички учатся быстрее, старшие не забывают победы, а каждый документ работает на будущее.
Знание в юриспруденции — это валюта. Оно ценно, только если его можно передать. Но в отличие от денег, знание не лежит в сейфе. Оно рассыпано: по головам сотрудников, чатам, письмам, «вон в том файле 2019 года», в устных рассказах — «а вот как мы делали в прошлом споре».
И вот наступает день, когда уходит ключевой юрист. Вместе с ним — полгода судебной практики, шаблоны писем, уникальный подход к работе с конкретным регулятором. И всё это канет в летаргическую папку на диске G:/Архив/2021.
Юрист-менеджер знаний видит это иначе. Он знает: каждая выработанная правовая позиция, каждый полезный шаблон, каждая победа в суде — это капитал. И этот капитал нужно не просто сохранить, а превратить в инструмент роста всей команды.
Он создаёт внутренние базы знаний. Настраивает классификацию документов. Объясняет: что, где и зачем хранить. Он превращает «мессенджер с хаосом» в wiki с логикой и оглавлением. Делает опыт доступным и воспроизводимым.
ИИ может обучаться, но без организованного знания он остаётся слеп. Ему нужен порядок, структура, системность. А юрист, который это создаёт, становится не просто носителем опыта, а его архитектором.
В команде, где есть юрист-менеджер знаний, новички учатся быстрее, старшие не забывают победы, а каждый документ работает на будущее.
Чтобы сохранить опыт:
- Вики и базы знаний — не мёртвая энциклопедия, а живая карта внутреннего опыта.
- Шаблоны и инструкции — не для галочки, а чтобы не начинать всё с нуля.
- Архитектура знаний — чтобы каждый юрист опирался на лучшее, что уже придумано.
- Контроль версии и качества — чтобы отличать «давно» от «хорошо».
Юрист как change-менеджер — агент перемен в правовом поле
Юридическая функция больше не существует в вакууме. Она двигается вместе с бизнесом: реструктуризация, agile-трансформация, внедрение ESG-стандартов, цифровизация, сокращение, рост, слияние, разделение и поглощение. Каждая перемена — это стресс. И каждую нужно не просто «пережить», а провести.
Юрист-change-менеджер — не пассивный наблюдатель, а активный участник трансформации. Он не ждёт, «когда дадут указание» — он сам инициирует: «Давайте пересмотрим наш договорной процесс под новые реалии». Он не боится вопросов: «А зачем?», «А почему?», «А мы так всегда делали». Он умеет объяснять.
Он работает не только с документами, но и с эмоциями. С сопротивлением. С «мы не хотим это менять». Он знает: перемены — это не «убедить всех», а пройти путь — шаг за шагом. С доверием. С планом. С открытыми глазами.
Компания внедряет новую модель распределения ответственности между департаментами. Все боятся: потерять влияние, стать крайними, что-то забыть и не учесть. Юрист-change-менеджер приходит не с правками в регламент, а с воркшопом, картой процессов, обсуждением и пошаговым внедрением.
ИИ пока не способен вести за собой. Он может быть инструментом перемен, но не их лидером. Перемены делают люди. А лучшие среди них — те, кто умеет говорить на языке закона, бизнеса и культуры одновременно.
Юрист, который умеет не только «обеспечить соблюдение», но и «обеспечить трансформацию», — это не просто эксперт. Это лидер.
Юридическая функция больше не существует в вакууме. Она двигается вместе с бизнесом: реструктуризация, agile-трансформация, внедрение ESG-стандартов, цифровизация, сокращение, рост, слияние, разделение и поглощение. Каждая перемена — это стресс. И каждую нужно не просто «пережить», а провести.
Юрист-change-менеджер — не пассивный наблюдатель, а активный участник трансформации. Он не ждёт, «когда дадут указание» — он сам инициирует: «Давайте пересмотрим наш договорной процесс под новые реалии». Он не боится вопросов: «А зачем?», «А почему?», «А мы так всегда делали». Он умеет объяснять.
Он работает не только с документами, но и с эмоциями. С сопротивлением. С «мы не хотим это менять». Он знает: перемены — это не «убедить всех», а пройти путь — шаг за шагом. С доверием. С планом. С открытыми глазами.
Компания внедряет новую модель распределения ответственности между департаментами. Все боятся: потерять влияние, стать крайними, что-то забыть и не учесть. Юрист-change-менеджер приходит не с правками в регламент, а с воркшопом, картой процессов, обсуждением и пошаговым внедрением.
ИИ пока не способен вести за собой. Он может быть инструментом перемен, но не их лидером. Перемены делают люди. А лучшие среди них — те, кто умеет говорить на языке закона, бизнеса и культуры одновременно.
Юрист, который умеет не только «обеспечить соблюдение», но и «обеспечить трансформацию», — это не просто эксперт. Это лидер.
Чтобы вести перемены:
- Методологии изменений (ADKAR, Kotter) — не академия, а карта движения.
- Работа с сопротивлением — не переубедить, а вовлечь.
- Перезапуск процессов — чтобы новое не стало хаосом.
- Лидерство в трансформации — идти первым, когда другие ещё сомневаются.
Вместо эпилога: игра не на выбывание, а на эволюцию.
Юридическая профессия не исчезнет. Но изменится. Ты можешь ждать, пока ИИ вырастет и зайдёт в твой кабинет. А можешь сам стать тем юристом, рядом с которым ИИ работает, но которого не может заменить.
Ты — не тот, кого заменит ИИ. Ты — тот, кто умеет думать, слышать, вести за собой и собирать вокруг сильную команду. Эти роли — не маскарад, а настоящая сила. А значит, в игре ты остаёшься. Главное — быть тем, кто меняется первым.
Юридическая профессия не исчезнет. Но изменится. Ты можешь ждать, пока ИИ вырастет и зайдёт в твой кабинет. А можешь сам стать тем юристом, рядом с которым ИИ работает, но которого не может заменить.
Ты — не тот, кого заменит ИИ. Ты — тот, кто умеет думать, слышать, вести за собой и собирать вокруг сильную команду. Эти роли — не маскарад, а настоящая сила. А значит, в игре ты остаёшься. Главное — быть тем, кто меняется первым.
мнение
/ по существу /
Что думают Академики Юридического менеджмента о профессии и ее будущем в эпоху AI
Комментарии: Егор Трубников, Дмитрий Бережной, Алтын Нугманова, Анна Безъязычных

/ Мнение авторов, порой совпадающее с мнением редакции /
Четыре эксперта — четыре взгляда на профессию. Мы собрали ответы на важные вопросы, которые волнуют и бизнес, и внутренние команды: что важнее — сервис или контроль, продукт или экспертиза, риск-менеджмент или универсальность? И, конечно, что будет с профессией в эпоху AI.
Комментарии экспертов Юридического менеджмента
1. Контроль за рисками или клиентский сервис — чем занимаются юристы в первую очередь?
Если коротко — то тем и другим. Это как в ресторане — хорошее блюдо без качественного обслуживания может испортить впечатление, а безупречный сервис не спасёт, если еда невкусная. Идеальный ресторан стремится к балансу между этими двумя составляющими. Так и с юристами: оценка рисков, как и другие юридические продукты, должны подаваться вовремя, удобно и понятно — то есть с качественным сервисом.
Приведу пример из практики. Ранее оценку рисков юристы делали в повествовательной форме, и клиентам было непросто воспринимать такие заключения. Сейчас это делается в табличной форме — с оценкой вероятности риска, его влияния («ущерба») на проект и с цветовой маркировкой «светофор». Клиент доволен, решения принимаются быстрее.
Подводя итог: клиентский сервис — это не альтернатива управлению рисками, а его органичное продолжение.
Контроль рисков — это «что» мы делаем, клиентский сервис — «как» мы это делаем. Исследования ACC (Association of Corporate Counsel, 2023) показывают, что внутренние юридические службы, которые активно развивают клиентский сервис, демонстрируют не только повышение собственной операционной эффективности, но и, в конечном счёте, способствуют снижению рисков компании. С этим трудно не согласиться.
2. Как бы ты описал границы между этими подходами, чтобы не впасть в крайности?
Я бы сформулировал так: граница проходит там, где заканчивается профессиональная ответственность и начинается попустительство.
Клиентский сервис не равен потаканию — можно быть гибким, но нельзя игнорировать «красные линии». И наоборот, контроль рисков — не равно паранойя и формализм, нельзя запрещать всё и «на всякий случай» — нужно оценивать реальные риски и предлагать решения.
Юридическая служба работает эффективно, когда достигается баланс между ориентацией на клиента и жёстким контролем рисков.
Для этого важно:
3. Когда клиентский сервис начинает приносить вред? Можешь привести примеры из практики?
Данный вопрос можно рассмотреть с разных сторон.
Первое — со стороны юристов. Клиентский сервис начинает вредить, когда юристы говорят «да» там, где должны сказать «нет», уходят в крайность, ставя удобство выше безопасности. Подробно об этом говорили выше.
Второе — со стороны клиентов. Когда клиент перестаёт видеть в юристах профессионалов, а воспринимает их как «исполнителя желаний». Это формирует у бизнеса привычку игнорировать правила.
И третье — со стороны команды. Когда команда работает на износ, покрывая нереалистичные ожидания клиентов, что приводит к ошибкам в документах, выгоранию и потере команды.
Один из примеров — когда бизнес просит быстро согласовать договор без проверки чистоты прав на приобретаемые объекты. Юрист соглашается, а потом оказывается, что у контрагента не было прав, а активы у него — минимальные. Как итог — репутационные и финансовые потери.
4. И наш дежурный вопрос — как AI повлияет на нашу профессию в горизонте 3 лет?
AI затронет работу практически каждого из нас: большие и маленькие организации, инхаус и консалтинг, госслужба и коммерция — все в ближайшие 3 года попробуют использовать AI в своей работе.
В первую очередь с помощью AI будут автоматизироваться рутинные процессы: поиск, анализ и проверка информации, создание документов, переформулирование текстов, саммаризация и др. Это будет происходить в разных направлениях: контрактной деятельности, судебно-претензионной работе, M&A, комплаенсе, консультировании и др.
В дальнейшем AI будет активно использоваться и в предиктивных целях — для предсказания будущих событий (предупреждение о будущей претензии, прогноз разрешения спора и т. д.).
Во-вторых, сама роль юриста будет трансформироваться — появятся новые компетенции. Юрист будет больше фокусироваться на нестандартных и сложных вопросах, будет обучаться навыкам использования новых технологий.
Отдельно отмечу важность и популярность интеграции AI в процесс клиентского сервиса. Так, по прогнозам ВТБ, в 2026 году 90% запросов в чатах и голосовых помощниках банка будет решать AI, обеспечивая мгновенные ответы и учёт истории обращений. Применительно к юристам, уже сейчас ряд компаний обучают AI на открытых данных и сведениях самой компании, а потом поручают анализировать запросы и предлагать простые решения (поиск локальных актов, корпоративных документов и т. д.) или передавать сложные вопросы профильным специалистам.
В заключение, отвечая на популярный вопрос о том, заменят ли AI-системы юристов, скажу словами Ричарда Сасскинда: в ближайшее время юристы, использующие ИИ, заменят тех, кто его игнорирует.
Если коротко — то тем и другим. Это как в ресторане — хорошее блюдо без качественного обслуживания может испортить впечатление, а безупречный сервис не спасёт, если еда невкусная. Идеальный ресторан стремится к балансу между этими двумя составляющими. Так и с юристами: оценка рисков, как и другие юридические продукты, должны подаваться вовремя, удобно и понятно — то есть с качественным сервисом.
Приведу пример из практики. Ранее оценку рисков юристы делали в повествовательной форме, и клиентам было непросто воспринимать такие заключения. Сейчас это делается в табличной форме — с оценкой вероятности риска, его влияния («ущерба») на проект и с цветовой маркировкой «светофор». Клиент доволен, решения принимаются быстрее.
Подводя итог: клиентский сервис — это не альтернатива управлению рисками, а его органичное продолжение.
Контроль рисков — это «что» мы делаем, клиентский сервис — «как» мы это делаем. Исследования ACC (Association of Corporate Counsel, 2023) показывают, что внутренние юридические службы, которые активно развивают клиентский сервис, демонстрируют не только повышение собственной операционной эффективности, но и, в конечном счёте, способствуют снижению рисков компании. С этим трудно не согласиться.
2. Как бы ты описал границы между этими подходами, чтобы не впасть в крайности?
Я бы сформулировал так: граница проходит там, где заканчивается профессиональная ответственность и начинается попустительство.
Клиентский сервис не равен потаканию — можно быть гибким, но нельзя игнорировать «красные линии». И наоборот, контроль рисков — не равно паранойя и формализм, нельзя запрещать всё и «на всякий случай» — нужно оценивать реальные риски и предлагать решения.
Юридическая служба работает эффективно, когда достигается баланс между ориентацией на клиента и жёстким контролем рисков.
Для этого важно:
- Чётко определить зоны ответственности юриста — кто отвечает за какие риски, где проходят «красные линии», а где достаточно формального контроля;
- Понять роль юриста в процессе — согласующий, советник или лицо, принимающее решения;
- Использовать матрицу решений, которая определяет, кто и по каким рискам вправе принимать решения;
- Обеспечить прозрачность коммуникаций — открыто информировать о рисках, объяснять их простым языком и предоставлять выбор.
3. Когда клиентский сервис начинает приносить вред? Можешь привести примеры из практики?
Данный вопрос можно рассмотреть с разных сторон.
Первое — со стороны юристов. Клиентский сервис начинает вредить, когда юристы говорят «да» там, где должны сказать «нет», уходят в крайность, ставя удобство выше безопасности. Подробно об этом говорили выше.
Второе — со стороны клиентов. Когда клиент перестаёт видеть в юристах профессионалов, а воспринимает их как «исполнителя желаний». Это формирует у бизнеса привычку игнорировать правила.
И третье — со стороны команды. Когда команда работает на износ, покрывая нереалистичные ожидания клиентов, что приводит к ошибкам в документах, выгоранию и потере команды.
Один из примеров — когда бизнес просит быстро согласовать договор без проверки чистоты прав на приобретаемые объекты. Юрист соглашается, а потом оказывается, что у контрагента не было прав, а активы у него — минимальные. Как итог — репутационные и финансовые потери.
4. И наш дежурный вопрос — как AI повлияет на нашу профессию в горизонте 3 лет?
AI затронет работу практически каждого из нас: большие и маленькие организации, инхаус и консалтинг, госслужба и коммерция — все в ближайшие 3 года попробуют использовать AI в своей работе.
В первую очередь с помощью AI будут автоматизироваться рутинные процессы: поиск, анализ и проверка информации, создание документов, переформулирование текстов, саммаризация и др. Это будет происходить в разных направлениях: контрактной деятельности, судебно-претензионной работе, M&A, комплаенсе, консультировании и др.
В дальнейшем AI будет активно использоваться и в предиктивных целях — для предсказания будущих событий (предупреждение о будущей претензии, прогноз разрешения спора и т. д.).
Во-вторых, сама роль юриста будет трансформироваться — появятся новые компетенции. Юрист будет больше фокусироваться на нестандартных и сложных вопросах, будет обучаться навыкам использования новых технологий.
Отдельно отмечу важность и популярность интеграции AI в процесс клиентского сервиса. Так, по прогнозам ВТБ, в 2026 году 90% запросов в чатах и голосовых помощниках банка будет решать AI, обеспечивая мгновенные ответы и учёт истории обращений. Применительно к юристам, уже сейчас ряд компаний обучают AI на открытых данных и сведениях самой компании, а потом поручают анализировать запросы и предлагать простые решения (поиск локальных актов, корпоративных документов и т. д.) или передавать сложные вопросы профильным специалистам.
В заключение, отвечая на популярный вопрос о том, заменят ли AI-системы юристов, скажу словами Ричарда Сасскинда: в ближайшее время юристы, использующие ИИ, заменят тех, кто его игнорирует.
1. Юридический продукт или юридическая экспертиза — чем занимаются юристы?
Это решение должен принять каждый юрист для себя.
Например, от ассистента я скорее жду «продукт» под ключ, потому что его миссия — разгрузить юристов, а если младший юрист ещё и нагружает юристов, то я считаю, что это ошибка найма.
От младшего юриста требуется и экспертиза, и продук. Например, в ведении младшего юриста находится вопрос по паспортизации кафе. Я жду, что младший юрист разберётся в требованиях закона и передаст их клиенту как готовый продукт. Он заранее подумает, как это применимо к нам, изучит практику рынка и предложит наилучшее решение.
Но младшему юристу, конечно, требуется наставник в обеих областях: и в валидации его выводов как эксперта, и в помощи с продуктовым подходом.
От старшего юриста (у нас это лидеры практик) я жду в первую очередь продукта под ключ. Например, у нас есть старший юрист IP&Privacy. И от него я жду под ключ — регистрации торговых марок Додо Пицца везде, где потребуется. При этом роль юриста должна быть проактивной — где регистрировать, с кем, какие знаки, какой бюджет, где хранить базу торговых марок, как коммуницировать с клиентом и так далее. В общем, я жду результат в виде продукта. Думаю, что без экспертизы невозможно дойти до стадии продукта.
2. Какие направления работы юристов стоит перевести в продуктовый подход в первую очередь?
Это зависит от индустрии компании, от того, что является для компании той областью, где происходит бизнес и выручка.
Например, у нас это франчайзинг, потому что наша выручка — это роялти. Значит, стоит продемонстрировать продуктовый подход во взаимодействии с командой по франчайзингу.
Или можно — очень универсально — в договорной работе, потому что это пронизывает 80% любой юридической работы.
3. Какие преимущества для бизнеса и для юриста?
Для бизнеса — сократится общее время решения задач, потому что не нужно объяснять юристам, что и зачем делать, они сразу будут заряжены на поиск решения в результат для компании.
Для юриста — рост экспертизы. Например, я неплохо разбираюсь во франчайзинге в общепите, я занимаюсь этим 9 лет. Недавно к нам стали обращаться за платными консультациями по проверке других договоров франчайзинга. Вот это я называю спросом на мою экспертизу. И она у меня не только по хардам, но и за счёт продуктового подхода — я понимаю бизнес общепита и как делать его на благо клиента.
4. Как повлияет AI?
Сэкономит деньги на переводы — вот мы уже по простым вопросам не обращаемся к переводчикам.
Заменит юристов в части: например, заменит процесс ведения протокола заседаний органов управления. Более того, я очень этого жду.
Заменит работу младших юристов по анализу судебной практики. Но задача — найти нужную практику — пока останется. Я думаю, это ещё будет дешевле делать вручную, нежели в технологиях.
Сильно повлияет на консультантов, потому что все шаблоны уже есть в интернете, и нам уже ничего стандартного от консультантов не потребуется.
Например, я недавно взяла чек-лист на предмет соблюдения некоторых законов от консультантов и попросила AI сделать на основе чек-листа список дел, а если требовалось сделать документы — то предложить проекты текстов. У меня ушло на это 15 минут.
Это решение должен принять каждый юрист для себя.
Например, от ассистента я скорее жду «продукт» под ключ, потому что его миссия — разгрузить юристов, а если младший юрист ещё и нагружает юристов, то я считаю, что это ошибка найма.
От младшего юриста требуется и экспертиза, и продук. Например, в ведении младшего юриста находится вопрос по паспортизации кафе. Я жду, что младший юрист разберётся в требованиях закона и передаст их клиенту как готовый продукт. Он заранее подумает, как это применимо к нам, изучит практику рынка и предложит наилучшее решение.
Но младшему юристу, конечно, требуется наставник в обеих областях: и в валидации его выводов как эксперта, и в помощи с продуктовым подходом.
От старшего юриста (у нас это лидеры практик) я жду в первую очередь продукта под ключ. Например, у нас есть старший юрист IP&Privacy. И от него я жду под ключ — регистрации торговых марок Додо Пицца везде, где потребуется. При этом роль юриста должна быть проактивной — где регистрировать, с кем, какие знаки, какой бюджет, где хранить базу торговых марок, как коммуницировать с клиентом и так далее. В общем, я жду результат в виде продукта. Думаю, что без экспертизы невозможно дойти до стадии продукта.
2. Какие направления работы юристов стоит перевести в продуктовый подход в первую очередь?
Это зависит от индустрии компании, от того, что является для компании той областью, где происходит бизнес и выручка.
Например, у нас это франчайзинг, потому что наша выручка — это роялти. Значит, стоит продемонстрировать продуктовый подход во взаимодействии с командой по франчайзингу.
Или можно — очень универсально — в договорной работе, потому что это пронизывает 80% любой юридической работы.
3. Какие преимущества для бизнеса и для юриста?
Для бизнеса — сократится общее время решения задач, потому что не нужно объяснять юристам, что и зачем делать, они сразу будут заряжены на поиск решения в результат для компании.
Для юриста — рост экспертизы. Например, я неплохо разбираюсь во франчайзинге в общепите, я занимаюсь этим 9 лет. Недавно к нам стали обращаться за платными консультациями по проверке других договоров франчайзинга. Вот это я называю спросом на мою экспертизу. И она у меня не только по хардам, но и за счёт продуктового подхода — я понимаю бизнес общепита и как делать его на благо клиента.
4. Как повлияет AI?
Сэкономит деньги на переводы — вот мы уже по простым вопросам не обращаемся к переводчикам.
Заменит юристов в части: например, заменит процесс ведения протокола заседаний органов управления. Более того, я очень этого жду.
Заменит работу младших юристов по анализу судебной практики. Но задача — найти нужную практику — пока останется. Я думаю, это ещё будет дешевле делать вручную, нежели в технологиях.
Сильно повлияет на консультантов, потому что все шаблоны уже есть в интернете, и нам уже ничего стандартного от консультантов не потребуется.
Например, я недавно взяла чек-лист на предмет соблюдения некоторых законов от консультантов и попросила AI сделать на основе чек-листа список дел, а если требовалось сделать документы — то предложить проекты текстов. У меня ушло на это 15 минут.
1. Оптимизация или цифровизация — что важнее и с чего начать? Что важнее?
Оптимизация, конечно.
На мой взгляд, противопоставлять цифровизацию оптимизации или наоборот — неправильно. Если соотнести эти понятия с точки зрения формальной логики, то цифровизация — это часть более широкого процесса — оптимизации. А если быть точнее, это один из инструментов.
Оптимизация — это целенаправленная деятельность по повышению эффективности чего-либо. Ей занимаются с незапамятных времён. Первый пример оптимизации в истории человечества — это использование орудия труда. Как только обезьяна взяла палку, она стала человеком.
Для чего это было сделано? Чтобы повысить эффективность её деятельности (сбивание плодов с деревьев).
Затем было многое: использование камней, металлов, сплавов, изобретение двигателя, ЭВМ. Всё это — про повышение эффективности труда.
Человек может использовать разные инструменты, в том числе цифровые. С ростом вычислительных мощностей, развитием инструментов искусственного интеллекта их будет всё больше и больше.
Если отвечать на вторую часть вопроса: с чего начать?
Как говорил один наш университетский преподаватель: «Начинать всегда нужно с начала». Чтобы проводить оптимизацию, автоматизацию или любые иные мероприятия, надо понять, а с чем имеем дело?
Для этого хорошо подходит карта процесса. Можно взять любой понравившийся фреймворк и попытаться описать процесс, его развилки и действующих лиц. На основе этого можно получить понимание о том, где использование цифровых инструментов будет эффективным.
Ну и если автоматизировать хаос, то получится автоматизированный хаос. Поэтому важно сначала привести процессы в порядок и только потом накладывать на них цифровизацию.
2. Какие направления работы ты считаешь правильным цифровизовать в первую очередь?
Простой, но абстрактный ответ: те, где это даст наибольший эффект. Серебряной пули здесь нет. Направления могут быть самые разные.
Как правило, цифровизация хорошо работает на больших объёмах.
Если у вас есть несколько направлений, расставляя приоритеты, возьмите то, что отнимает больше всего ресурсов. Не ошибётесь!
Есть классические направления, хорошо поддающиеся цифровизации:
Откройте нашу карту legal tech-решений и найдите направление, где есть больше всего решений. Подсказка: это будет договорная работа.
3. Как доказать бизнесу целесообразность внедрения? Дай 5 советов.
Короткий ответ: через демонстрацию экономических эффектов от внедрения. Во всех сферах экономической деятельности есть универсальный язык — денег и цифр.
Как бы ни было грустно юристам от этого, но надо садиться за Excel и считать затраты и экономический эффект. Если разница положительная — внедрение имеет смысл. Если отрицательная — стоит подумать о целесообразности. Затем с этими расчётами надо идти к лицу, принимающему решение.
Пять советов:
4. Как AI повлияет на нашу профессию в горизонте 3лет.
Когда меня спрашивают про влияние искусственного интеллекта, всегда привожу пример с появлением справочно-правовых систем на рубеже веков.
Как было до: юристы покупали бумажные законы, выписывали «Российскую газету». В случае внесения изменений вклеивали правки в свои бумажные книжицы.
Что произошло: юрист получил доступ к актуальной редакции закона онлайн. Отслеживать и вклеивать изменения перестало быть необходимостью.
Исчезли ли юристы?
Нет. Но работа изменилась, а эффективность повысилась. Самыми востребованными оказались те, кто обладал гибким мышлением, умением приспосабливаться к изменениям. Память и погружённость в тему отошли на второй план.
Примерно те же процессы происходят и в связи с внедрением ИИ.
Юристы не исчезнут. Востребованными будут те, кто сможет подружиться с AI, сделает его полноценным инструментом в своей работе.
Ну и как неизбежное следствие — появятся отдельные ветки внутри юриспруденции: этика искусственного интеллекта, юрист-оператор/тренер AI, юрист-тестировщик AI и т. д.
Оптимизация, конечно.
На мой взгляд, противопоставлять цифровизацию оптимизации или наоборот — неправильно. Если соотнести эти понятия с точки зрения формальной логики, то цифровизация — это часть более широкого процесса — оптимизации. А если быть точнее, это один из инструментов.
Оптимизация — это целенаправленная деятельность по повышению эффективности чего-либо. Ей занимаются с незапамятных времён. Первый пример оптимизации в истории человечества — это использование орудия труда. Как только обезьяна взяла палку, она стала человеком.
Для чего это было сделано? Чтобы повысить эффективность её деятельности (сбивание плодов с деревьев).
Затем было многое: использование камней, металлов, сплавов, изобретение двигателя, ЭВМ. Всё это — про повышение эффективности труда.
Человек может использовать разные инструменты, в том числе цифровые. С ростом вычислительных мощностей, развитием инструментов искусственного интеллекта их будет всё больше и больше.
Если отвечать на вторую часть вопроса: с чего начать?
Как говорил один наш университетский преподаватель: «Начинать всегда нужно с начала». Чтобы проводить оптимизацию, автоматизацию или любые иные мероприятия, надо понять, а с чем имеем дело?
Для этого хорошо подходит карта процесса. Можно взять любой понравившийся фреймворк и попытаться описать процесс, его развилки и действующих лиц. На основе этого можно получить понимание о том, где использование цифровых инструментов будет эффективным.
Ну и если автоматизировать хаос, то получится автоматизированный хаос. Поэтому важно сначала привести процессы в порядок и только потом накладывать на них цифровизацию.
2. Какие направления работы ты считаешь правильным цифровизовать в первую очередь?
Простой, но абстрактный ответ: те, где это даст наибольший эффект. Серебряной пули здесь нет. Направления могут быть самые разные.
Как правило, цифровизация хорошо работает на больших объёмах.
Если у вас есть несколько направлений, расставляя приоритеты, возьмите то, что отнимает больше всего ресурсов. Не ошибётесь!
Есть классические направления, хорошо поддающиеся цифровизации:
- взаимодействие с клиентом (хотя для юристов инхаус привычнее — бизнес-заказчик),
- претензионно-судебная работа;
- договорный процесс;
- комплаенс.
Откройте нашу карту legal tech-решений и найдите направление, где есть больше всего решений. Подсказка: это будет договорная работа.
3. Как доказать бизнесу целесообразность внедрения? Дай 5 советов.
Короткий ответ: через демонстрацию экономических эффектов от внедрения. Во всех сферах экономической деятельности есть универсальный язык — денег и цифр.
Как бы ни было грустно юристам от этого, но надо садиться за Excel и считать затраты и экономический эффект. Если разница положительная — внедрение имеет смысл. Если отрицательная — стоит подумать о целесообразности. Затем с этими расчётами надо идти к лицу, принимающему решение.
Пять советов:
- Считать экономику. Переводить эффекты в деньги. Оцифровывать затраты.
- Начинать с малого. Сделать пилот на чём-то простом. Желательно вообще без бюджета, показать результат лицам, принимающим решения. Это вдохновляет и даёт кредит доверия.
- Запрашивать у вендоров тестовый период для анализа применимости решения и демонстрации «товара лицом» внутри своей компании.
- Вовлекать стейкхолдеров на этапе подготовки требований и выбора решений. Заручиться поддержкой смежных подразделений.
- Изучать опыт других команд, которые внедрили у себя такое решение.
4. Как AI повлияет на нашу профессию в горизонте 3лет.
Когда меня спрашивают про влияние искусственного интеллекта, всегда привожу пример с появлением справочно-правовых систем на рубеже веков.
Как было до: юристы покупали бумажные законы, выписывали «Российскую газету». В случае внесения изменений вклеивали правки в свои бумажные книжицы.
Что произошло: юрист получил доступ к актуальной редакции закона онлайн. Отслеживать и вклеивать изменения перестало быть необходимостью.
Исчезли ли юристы?
Нет. Но работа изменилась, а эффективность повысилась. Самыми востребованными оказались те, кто обладал гибким мышлением, умением приспосабливаться к изменениям. Память и погружённость в тему отошли на второй план.
Примерно те же процессы происходят и в связи с внедрением ИИ.
Юристы не исчезнут. Востребованными будут те, кто сможет подружиться с AI, сделает его полноценным инструментом в своей работе.
Ну и как неизбежное следствие — появятся отдельные ветки внутри юриспруденции: этика искусственного интеллекта, юрист-оператор/тренер AI, юрист-тестировщик AI и т. д.
Что такое риск-ориентированный подход для юристов?
Юристы, использующие риск-ориентированный подход, очень точно ощущают категорию «важно» в матрице Эйзенхауэра.
Фактически у нас, у юристов, «важно» — это работа по приоритетным рискам.
Чтобы увидеть приоритет, мы изучаем архитектуру рисков бизнеса в целом, работаем с категориями «материальности» и «вероятности» риска.
Я наблюдаю, как нам сложно оценивать вероятности реализации рисков. Но именно эта оценка позволяет говорить с бизнесом на одном языке, так как бизнес работает с рисками ежедневно.
2. Какие направления работы юристов ты считаешь правильным перевести в риск-ориентированный подход в первую очередь и с чего начать?
Договорную работу и судебную работу.
(Про M&A не упоминаю, так как там работа с риском, особенно в рамках дотранзакционных проверок (DD), — это гиперфокус.)
У нас должна быть матрица приоритетов в договорной и судебной работе, построенная из нашего понимания приоритетных рисков.
Например, в работе с договорами — это оценка рисков для нескольких полей и уровней:
Главная цель этой работы — дать нам знание, где наши критичные приоритеты, причём на разном уровне масштаба и приближения.
Фактически мы постепенно выявляем зону, где для нашей бизнес-системы допустима нестерильность.
В случае судебной работы риск-ориентированный подход также даёт нам возможность принимать системные решения. Он позволяет видеть, от какого объёма сопровождения мы не можем ни в коем случае отказаться, даже при недостаточности ресурсов. А по каким судебным случаям такое сопровождение не имеет смысла даже начинать.
3. Какие преимущества он даст для бизнеса, а какие — для юристов?
Бизнес получает возможность принятия решений в условиях неопределённости. Причём скорость этих решений будет выше, так как пороги допустимого риска определены совместно и заранее.
Роль юристов в таком подходе трансформируется из «прокурорского надзора» в стратегического советника.
А это открывает ростовые треки даже за пределы юридической функции.
Юристы, использующие риск-ориентированный подход, очень точно ощущают категорию «важно» в матрице Эйзенхауэра.
Фактически у нас, у юристов, «важно» — это работа по приоритетным рискам.
Чтобы увидеть приоритет, мы изучаем архитектуру рисков бизнеса в целом, работаем с категориями «материальности» и «вероятности» риска.
Я наблюдаю, как нам сложно оценивать вероятности реализации рисков. Но именно эта оценка позволяет говорить с бизнесом на одном языке, так как бизнес работает с рисками ежедневно.
2. Какие направления работы юристов ты считаешь правильным перевести в риск-ориентированный подход в первую очередь и с чего начать?
Договорную работу и судебную работу.
(Про M&A не упоминаю, так как там работа с риском, особенно в рамках дотранзакционных проверок (DD), — это гиперфокус.)
У нас должна быть матрица приоритетов в договорной и судебной работе, построенная из нашего понимания приоритетных рисков.
Например, в работе с договорами — это оценка рисков для нескольких полей и уровней:
- для видов договоров;
- для уровней материальности;
- для уровня отдельных положений (мы определяем, какие приоритетны в любых или многих видах договоров…).
Главная цель этой работы — дать нам знание, где наши критичные приоритеты, причём на разном уровне масштаба и приближения.
Фактически мы постепенно выявляем зону, где для нашей бизнес-системы допустима нестерильность.
В случае судебной работы риск-ориентированный подход также даёт нам возможность принимать системные решения. Он позволяет видеть, от какого объёма сопровождения мы не можем ни в коем случае отказаться, даже при недостаточности ресурсов. А по каким судебным случаям такое сопровождение не имеет смысла даже начинать.
3. Какие преимущества он даст для бизнеса, а какие — для юристов?
Бизнес получает возможность принятия решений в условиях неопределённости. Причём скорость этих решений будет выше, так как пороги допустимого риска определены совместно и заранее.
Роль юристов в таком подходе трансформируется из «прокурорского надзора» в стратегического советника.
А это открывает ростовые треки даже за пределы юридической функции.
Обзоры
/ по существу /
Что повысит популярность Вашей юридической команды?
Авторы: Надежда Гордеева, руководитель службы корпоративной поддержки, цифровой трансформации и развития Т2; Алексей Никифоров, к.ю.н., основатель компании «Юридический менеджмент. Альтернативный провайдер юридических услуг»
О клиентском сервисе мы говорим много. Действительно, юридическая функция, а тем более юридическая фирма, не могут не быть клиентоориентированными — и об этом мы не будем долго рассуждать. Уже многое сказано и в Книге, и в статьях наших Академиков в журнале По существу.
Но до настоящего момента мы не обращались к специализированной литературе о работе с клиентами. Какие существуют подходы к клиентскому сервису? Как его улучшить? Как это измерить? Как начать внедрять новые подходы и менять сознание команды?
Когда член нашего клуба LOCos Надежда Гордеева (кстати, также колумнист нашего журнала) написала мне, что в её юридической команде Т2 применяется индекс CES (о нём — ниже), я буквально схватился за этот опыт и предложил Анне вместе сделать небольшой обзор базовой книги о лёгкости клиентского сервиса.
Предоставляем статью на Ваш суд.
И не судите строго за объём — ведь шортриды хороши только тогда, когда есть возможность посмотреть детальнее.
Но до настоящего момента мы не обращались к специализированной литературе о работе с клиентами. Какие существуют подходы к клиентскому сервису? Как его улучшить? Как это измерить? Как начать внедрять новые подходы и менять сознание команды?
Когда член нашего клуба LOCos Надежда Гордеева (кстати, также колумнист нашего журнала) написала мне, что в её юридической команде Т2 применяется индекс CES (о нём — ниже), я буквально схватился за этот опыт и предложил Анне вместе сделать небольшой обзор базовой книги о лёгкости клиентского сервиса.
Предоставляем статью на Ваш суд.
И не судите строго за объём — ведь шортриды хороши только тогда, когда есть возможность посмотреть детальнее.

Книга начинается с обсуждения парадокса: большинство компаний уверены, что стремятся поражать клиентов высоким уровнем обслуживания, но исследования показывают: большинство людей гораздо чаще прекращают пользоваться услугами компании из-за плохого сервиса, чем остаются — из-за хорошего. Компании недооценивают важность просто соответствовать ожиданиям клиентов и переоценивают ценность «вау-эффекта».
Авторы отмечают, что из-за того, что рынок стал однородным — бренды, продукты и услуги мало различаются между собой — компании всё чаще пытаются выделиться именно за счёт клиентского сервиса, особенно в тех случаях, когда клиент обращается с проблемой или жалобой.
При этом традиционная логика бизнеса гласит: чем больше мы превышаем ожидания клиента, тем выше его лояльность. Но на самом деле удовлетворённость — не равно лояльность. Почему? Потому что люди охотнее рассказывают другим о своём негативном опыте, чем о хорошем. И получается, что именно негативный опыт сервисного взаимодействия становится основной причиной отказа от бренда, даже если сам продукт или цена устраивают клиента.
Стратегия удивления клиента работает до определённого момента: после того как ожидания клиента были удовлетворены, лояльность не растёт, несмотря на прилагаемые усилия компании. Исследования показывают, что 20% удовлетворённых клиентов всё равно готовы уйти. Получается, что превышение ожиданий не даёт дополнительной экономической выгоды, при этом стоимость таких попыток обычно высока.
Почему же клиенты уходят?
Потому что типичный клиентский сервис часто провоцирует клиента прилагать усилия — и тем самым становится причиной негативного клиентского опыта.
Другое исследование показывает, что взаимодействие клиента со службой обслуживания в процессе решения возникшей проблемы в четыре раза чаще формирует у него негативный опыт, чем позитивный.
Это связано с тем, что приходится прилагать усилия и проходить через раздражающие моменты: необходимость заходить на сайт или звонить повторно, рассказывать проблему заново, переключаться между каналами взаимодействия с компанией или слышать от сотрудников стандартные формулировки вместо живого участия и реального решения проблемы.
Поэтому ключ к повышению лояльности — максимальное снижение усилий клиента при получении продукта или услуги. Настолько, чтобы у него вообще не возникало никаких вопросов — и тем более проблем. А значит, не было бы и самой необходимости обращаться в службу клиентского сервиса за помощью. Чем проще для клиента решение вопроса — тем выше его лояльность.
Авторы отмечают, что из-за того, что рынок стал однородным — бренды, продукты и услуги мало различаются между собой — компании всё чаще пытаются выделиться именно за счёт клиентского сервиса, особенно в тех случаях, когда клиент обращается с проблемой или жалобой.
При этом традиционная логика бизнеса гласит: чем больше мы превышаем ожидания клиента, тем выше его лояльность. Но на самом деле удовлетворённость — не равно лояльность. Почему? Потому что люди охотнее рассказывают другим о своём негативном опыте, чем о хорошем. И получается, что именно негативный опыт сервисного взаимодействия становится основной причиной отказа от бренда, даже если сам продукт или цена устраивают клиента.
Стратегия удивления клиента работает до определённого момента: после того как ожидания клиента были удовлетворены, лояльность не растёт, несмотря на прилагаемые усилия компании. Исследования показывают, что 20% удовлетворённых клиентов всё равно готовы уйти. Получается, что превышение ожиданий не даёт дополнительной экономической выгоды, при этом стоимость таких попыток обычно высока.
Почему же клиенты уходят?
Потому что типичный клиентский сервис часто провоцирует клиента прилагать усилия — и тем самым становится причиной негативного клиентского опыта.
Другое исследование показывает, что взаимодействие клиента со службой обслуживания в процессе решения возникшей проблемы в четыре раза чаще формирует у него негативный опыт, чем позитивный.
Это связано с тем, что приходится прилагать усилия и проходить через раздражающие моменты: необходимость заходить на сайт или звонить повторно, рассказывать проблему заново, переключаться между каналами взаимодействия с компанией или слышать от сотрудников стандартные формулировки вместо живого участия и реального решения проблемы.
Поэтому ключ к повышению лояльности — максимальное снижение усилий клиента при получении продукта или услуги. Настолько, чтобы у него вообще не возникало никаких вопросов — и тем более проблем. А значит, не было бы и самой необходимости обращаться в службу клиентского сервиса за помощью. Чем проще для клиента решение вопроса — тем выше его лояльность.
→ Вывод
Задача сервиса — не «вау-эффект», а минимизация усилий клиента.
Задача сервиса — не «вау-эффект», а минимизация усилий клиента.
Как же компаниям системно снижать усилия клиентов, чтобы повышать лояльность и достигать лучших бизнес-результатов?
1. Усиливать эффективность самообслуживания (self-service)
Люди предпочитают самообслуживание (self-service) вместо общения с сотрудниками. Это касается не только простых вопросов (баланс, статус заказа), но и более сложных случаев. Компании же продолжают считать, что клиент хочет звонить, особенно при возникновении проблем, и продолжают инвестировать в call-центры вместо развития сайтов и чат-ботов.
Мифы, в которые верят компании:
1. Усиливать эффективность самообслуживания (self-service)
Люди предпочитают самообслуживание (self-service) вместо общения с сотрудниками. Это касается не только простых вопросов (баланс, статус заказа), но и более сложных случаев. Компании же продолжают считать, что клиент хочет звонить, особенно при возникновении проблем, и продолжают инвестировать в call-центры вместо развития сайтов и чат-ботов.
Мифы, в которые верят компании:
В self-service идут только за простыми вещами.
Им пользуется только молодёжь.
Сделать хороший self-service — дорого.
На деле клиенты ценят возможность решить вопрос самостоятельно. Это экономит их время и позволяет чувствовать контроль над ситуацией. Даже старшее поколение всё чаще предпочитает интернет звонкам. «Переломный возраст» — около 50 лет. Уровень доверия к самообслуживанию вырос во всех возрастах и сферах.
Главная причина отказа клиентов от использования self-service — необходимость переключения между каналами.
58% клиентов сначала пробуют решить вопрос на сайте, но им это не удаётся, и тогда приходится звонить. Это плохо как для клиентов (повышает неудовлетворённость), так и для компаний: двойной контакт дороже, чем один.
Если устранить причины переключения, можно одновременно сократить издержки и повысить лояльность.
Это требует:
Но так как компании не умеют отслеживать весь путь клиента между каналами, они часто не видят и, следовательно, недооценивают реальные причины и масштаб переключений.
ВАЖНО:
Сосредотачивать усилия нужно не на том, чтобы заставить всех клиентов перейти на самообслуживание, а на том, чтобы удержать тех, кто уже перешёл.
Большинство сайтов услуг терпят неудачу не из-за нехватки функциональности и контента, а потому, что там слишком много информации — клиенту сложно самостоятельно выбрать нужный канал.
Лучшие компании активно упрощают свои сайты и выстраивают их так, чтобы направлять клиентов к тем каналам и материалам, которые наилучшим образом решают их проблему, — в отличие от стратегии, при которой клиент должен выбирать сам.
Если вы справились с текущим обращением — это ещё не значит, что проблема действительно решена.
Главная причина отказа клиентов от использования self-service — необходимость переключения между каналами.
58% клиентов сначала пробуют решить вопрос на сайте, но им это не удаётся, и тогда приходится звонить. Это плохо как для клиентов (повышает неудовлетворённость), так и для компаний: двойной контакт дороже, чем один.
Если устранить причины переключения, можно одновременно сократить издержки и повысить лояльность.
Это требует:
- удобного, логичного, эффективного онлайн-сервиса;
- работы над первопричинами обращений;
- перестройки KPI и мышления в сторону «удобства клиента», а не «количества отработанных звонков».
Но так как компании не умеют отслеживать весь путь клиента между каналами, они часто не видят и, следовательно, недооценивают реальные причины и масштаб переключений.
ВАЖНО:
Сосредотачивать усилия нужно не на том, чтобы заставить всех клиентов перейти на самообслуживание, а на том, чтобы удержать тех, кто уже перешёл.
Большинство сайтов услуг терпят неудачу не из-за нехватки функциональности и контента, а потому, что там слишком много информации — клиенту сложно самостоятельно выбрать нужный канал.
Лучшие компании активно упрощают свои сайты и выстраивают их так, чтобы направлять клиентов к тем каналам и материалам, которые наилучшим образом решают их проблему, — в отличие от стратегии, при которой клиент должен выбирать сам.
Если вы справились с текущим обращением — это ещё не значит, что проблема действительно решена.
2. Работать над предотвращением повторных обращений клиентов
Компании ошибочно считают, что главное — закрыть текущий вопрос. Но часто клиенты, решившие свою текущую проблему, обращаются позднее по причинам, косвенно связанным с ней.
Чтобы повторные обращения клиентов не оставались незамеченными, компаниям лучше использовать метрику FCR (First Call Resolution) только вместе с отслеживанием процента повторных обращений:
Наиболее распространённые источники повторных обращений:
Лучшие компании рассматривают проблемы как комплексные события, а не как единичные кейсы. Они обучают представителей решать не только текущую проблему, с которой обратился клиент, но и связанные с ней возможные сложности. То есть — закрывать не только жалобу, но и предотвращать будущие. Для этого клиентам дают инструкции не только по текущей ситуации, но и по последующим шагам: объясняют возможные трудности и подсказывают пути их решения.
Компании ошибочно считают, что главное — закрыть текущий вопрос. Но часто клиенты, решившие свою текущую проблему, обращаются позднее по причинам, косвенно связанным с ней.
Чтобы повторные обращения клиентов не оставались незамеченными, компаниям лучше использовать метрику FCR (First Call Resolution) только вместе с отслеживанием процента повторных обращений:
- FCR (First Call Resolution) — метрика, измеряющая способность контакт-центра решать запросы клиентов с первого обращения. Она показывает, какой процент клиентских вопросов был решён при первом контакте с поддержкой.
- Повторное обращение — это процент обращений в службу поддержки, когда клиент повторно обращается по той же проблеме. Большой процент повторных обращений часто указывает на нерешённые исходные проблемы или неадекватную начальную поддержку, что приводит к разочарованию и снижению лояльности клиентов.
Наиболее распространённые источники повторных обращений:
- последствия, связанные с текущей проблемой, возникающие позднее;
- непонимание между представителем и клиентом — например, когда клиенту не совсем ясен или не нравится полученный ответ.
Лучшие компании рассматривают проблемы как комплексные события, а не как единичные кейсы. Они обучают представителей решать не только текущую проблему, с которой обратился клиент, но и связанные с ней возможные сложности. То есть — закрывать не только жалобу, но и предотвращать будущие. Для этого клиентам дают инструкции не только по текущей ситуации, но и по последующим шагам: объясняют возможные трудности и подсказывают пути их решения.
3. Обучать сотрудников управлять восприятием клиента
Даже при быстрой и формально корректной работе клиент может остаться недоволен, если его не услышали, не проявили интереса, не учли его настроение. Восприятие клиентом собственных усилий субъективно: оно лишь на треть складывается из реальных действий, а на две трети — из ощущений.
Значительная часть усилий клиента обусловлена тем, насколько трудоёмким ему показалось взаимодействие, а не тем, насколько трудоёмким оно было на самом деле.
Управление восприятием — это не только вежливость.
Инженерия клиентского опыта — это метод управления реакцией клиента с целью создания бесшовного и комфортного взаимодействия. Этот подход отличается и по форме, и по цели от традиционных «навыков общения»: он объединяет дизайн-мышление и технологии анализа поведения и потребностей клиента. Это означает осознанное проектирование каждого этапа контакта с клиентом — с фокусом на персонализацию, вовлечённость и удобство.
Приёмы управления восприятием:
Важно отказаться от скриптов, формальных фраз и стандартных извинений: они усиливают ощущение усилий и вызывают раздражение.
Почему это важно:
Компании, преуспевшие в этом подходе:
Клиентоориентированность начинается с тех, кто на передовой
Вы можете сколько угодно стремиться к идеальному клиентскому сервису, но если юристы, ежедневно взаимодействующие с внутренними заказчиками, не настроены на клиента, все усилия окажутся напрасными.
Часто сотрудников «передней линии» обучают алгоритмам, скриптам и чек-листам — чтобы они говорили по шаблону и не отклонялись ни вправо, ни влево. Наверняка вы сталкивались с такими операторами колл-центров или продавцами. Чем механичнее звучит общение, тем меньше удовлетворённость от сервиса.
Авторы книги проанализировали, какие именно навыки важнее всего для сотрудников клиентского сервиса.
Вот из чего они выбирали:
Даже при быстрой и формально корректной работе клиент может остаться недоволен, если его не услышали, не проявили интереса, не учли его настроение. Восприятие клиентом собственных усилий субъективно: оно лишь на треть складывается из реальных действий, а на две трети — из ощущений.
Значительная часть усилий клиента обусловлена тем, насколько трудоёмким ему показалось взаимодействие, а не тем, насколько трудоёмким оно было на самом деле.
Управление восприятием — это не только вежливость.
Инженерия клиентского опыта — это метод управления реакцией клиента с целью создания бесшовного и комфортного взаимодействия. Этот подход отличается и по форме, и по цели от традиционных «навыков общения»: он объединяет дизайн-мышление и технологии анализа поведения и потребностей клиента. Это означает осознанное проектирование каждого этапа контакта с клиентом — с фокусом на персонализацию, вовлечённость и удобство.
Приёмы управления восприятием:
- давать чёткие ориентиры («Я сделаю это за 5 минут», «Вам не придётся звонить снова»);
- предупреждать о возможных сложностях заранее;
- извиняться за возможные неудобства ещё до их появления;
- формулировать информацию с позиции заботы, а не формальности.
Важно отказаться от скриптов, формальных фраз и стандартных извинений: они усиливают ощущение усилий и вызывают раздражение.
Почему это важно:
- Клиент запоминает не факты, а эмоции.
- Ощущение «мне помогли легко» важнее фактической скорости.
- Простота — в глазах клиента, а не в метриках компании.
Компании, преуспевшие в этом подходе:
- дают сотрудникам свободу вести диалог в живом, человеческом ключе;
- обучают сотрудников психологии клиента;
- меняют KPI с количественных (скорость, количество звонков) на качественные (эмпатия, ясность, понятность).
Клиентоориентированность начинается с тех, кто на передовой
Вы можете сколько угодно стремиться к идеальному клиентскому сервису, но если юристы, ежедневно взаимодействующие с внутренними заказчиками, не настроены на клиента, все усилия окажутся напрасными.
Часто сотрудников «передней линии» обучают алгоритмам, скриптам и чек-листам — чтобы они говорили по шаблону и не отклонялись ни вправо, ни влево. Наверняка вы сталкивались с такими операторами колл-центров или продавцами. Чем механичнее звучит общение, тем меньше удовлетворённость от сервиса.
Авторы книги проанализировали, какие именно навыки важнее всего для сотрудников клиентского сервиса.
Вот из чего они выбирали:
Эмоциональный интеллект
— способность чувствовать клиента, понимать его позицию и эмоциональное состояние.
Когнитивные способности (IQ)
— умение оперировать данными, анализировать ситуацию, находить решения.
Базовые поведенческие навыки
— навыки вежливого общения, взаимодействия и соблюдения делового этикета.
Самоконтроль
— умение восстанавливаться после стресса, сохранять концентрацию, брать ответственность, конструктивно воспринимать критику и избегать выгорания.
Как вы уже могли догадаться, наиболее критичным оказался именно самоконтроль — его значение в два раза превысило важность всех остальных навыков.
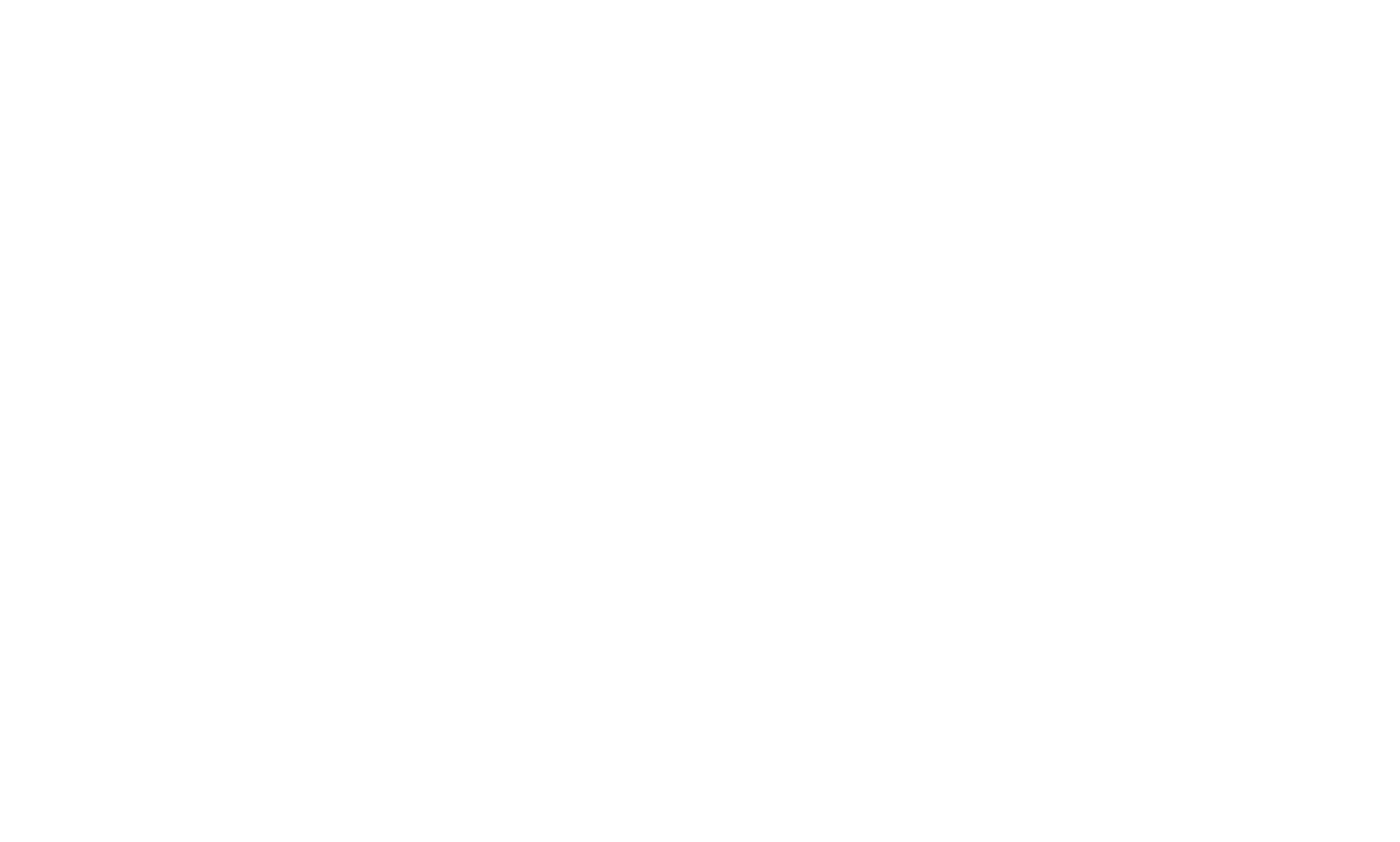
Как вы уже могли догадаться, наиболее критичным оказался именно самоконтроль — его значение в два раза превысило важность всех остальных навыков.
Почему самоконтроль — ключевой навык в работе с клиентами?
Когда вы взаимодействуете с недовольным клиентом, важно не впитать его негатив и не перенести его на следующего. Каждый новый заказчик имеет право на нейтральное, профессиональное и спокойное общение — вне зависимости от предыдущего диалога. Именно поэтому в работе с внутренними клиентами особенно важно не только вовлекаться в конкретный кейс, но и уметь психологически «отключаться» от предыдущего.
Это может показаться парадоксом, но способность эмоционально «переключаться» между задачами и клиентами — главный ресурс на «передовой». Кстати, сотрудники колл-центров или клиентских сервисов с длительным стажем, как правило, обладают этим навыком. Это своего рода эффект естественного отбора — без самоконтроля просто невозможно выжить в условиях высокой эмоциональной нагрузки.
Однажды моя помощница рассказала о своём опыте работы в двух автосалонах:
Уровень самоконтроля у них заметно ниже. И это неудивительно — «мышца самоконтроля» не развивается там, где её не приходится использовать. Чем закрытее и «бумажнее» функция, тем слабее навык удержания внутреннего равновесия.
Чем отличаются сотрудники с высокой и низкой степенью самоконтроля?
Исследование показало интересные различия в мотивации двух групп сотрудников.
Сотрудники с низким самоконтролем чаще говорят:
Дело не только в людях, а в среде.
Можно было бы сделать вывод: стоит сразу нанимать только тех, у кого высокая степень самоконтроля. Но авторы книги считают иначе: среда важнее, чем изначальные личные качества.
Если взять сильных специалистов с высоким уровнем самоконтроля и поместить их в демотивирующую среду, где нет поддержки и культуры восстановления, — они потеряют устойчивость.
А если создать поддерживающую среду для тех, кто не блистал этим навыком раньше, — они вырастут.
Как создать среду, в которой развивается самоконтроль?
Почему самоконтроль — ключевой навык в работе с клиентами?
Когда вы взаимодействуете с недовольным клиентом, важно не впитать его негатив и не перенести его на следующего. Каждый новый заказчик имеет право на нейтральное, профессиональное и спокойное общение — вне зависимости от предыдущего диалога. Именно поэтому в работе с внутренними клиентами особенно важно не только вовлекаться в конкретный кейс, но и уметь психологически «отключаться» от предыдущего.
Это может показаться парадоксом, но способность эмоционально «переключаться» между задачами и клиентами — главный ресурс на «передовой». Кстати, сотрудники колл-центров или клиентских сервисов с длительным стажем, как правило, обладают этим навыком. Это своего рода эффект естественного отбора — без самоконтроля просто невозможно выжить в условиях высокой эмоциональной нагрузки.
Однажды моя помощница рассказала о своём опыте работы в двух автосалонах:
- В первом продавались новые автомобили, клиенты были довольны, общение было лёгким.
- Во втором — машины с пробегом, а клиенты приходили с тревогой, недоверием и запросами на «идеальное за недорого». Там стресс был постоянным, и она не выдержала, ушла.
Уровень самоконтроля у них заметно ниже. И это неудивительно — «мышца самоконтроля» не развивается там, где её не приходится использовать. Чем закрытее и «бумажнее» функция, тем слабее навык удержания внутреннего равновесия.
Чем отличаются сотрудники с высокой и низкой степенью самоконтроля?
Исследование показало интересные различия в мотивации двух групп сотрудников.
Сотрудники с низким самоконтролем чаще говорят:
- «Мне важен баланс работы и личной жизни»
- «Я люблю помогать клиентам»
- «Мне важны льготы, компенсации и стабильность компании»
- «Мне важна высокая оценка от руководителя»
- «Мне важна хорошая рабочая атмосфера»
- «Мне нужна автономия в работе с клиентами»
- «Мне важно доверие со стороны руководства»
Дело не только в людях, а в среде.
Можно было бы сделать вывод: стоит сразу нанимать только тех, у кого высокая степень самоконтроля. Но авторы книги считают иначе: среда важнее, чем изначальные личные качества.
Если взять сильных специалистов с высоким уровнем самоконтроля и поместить их в демотивирующую среду, где нет поддержки и культуры восстановления, — они потеряют устойчивость.
А если создать поддерживающую среду для тех, кто не блистал этим навыком раньше, — они вырастут.
Как создать среду, в которой развивается самоконтроль?
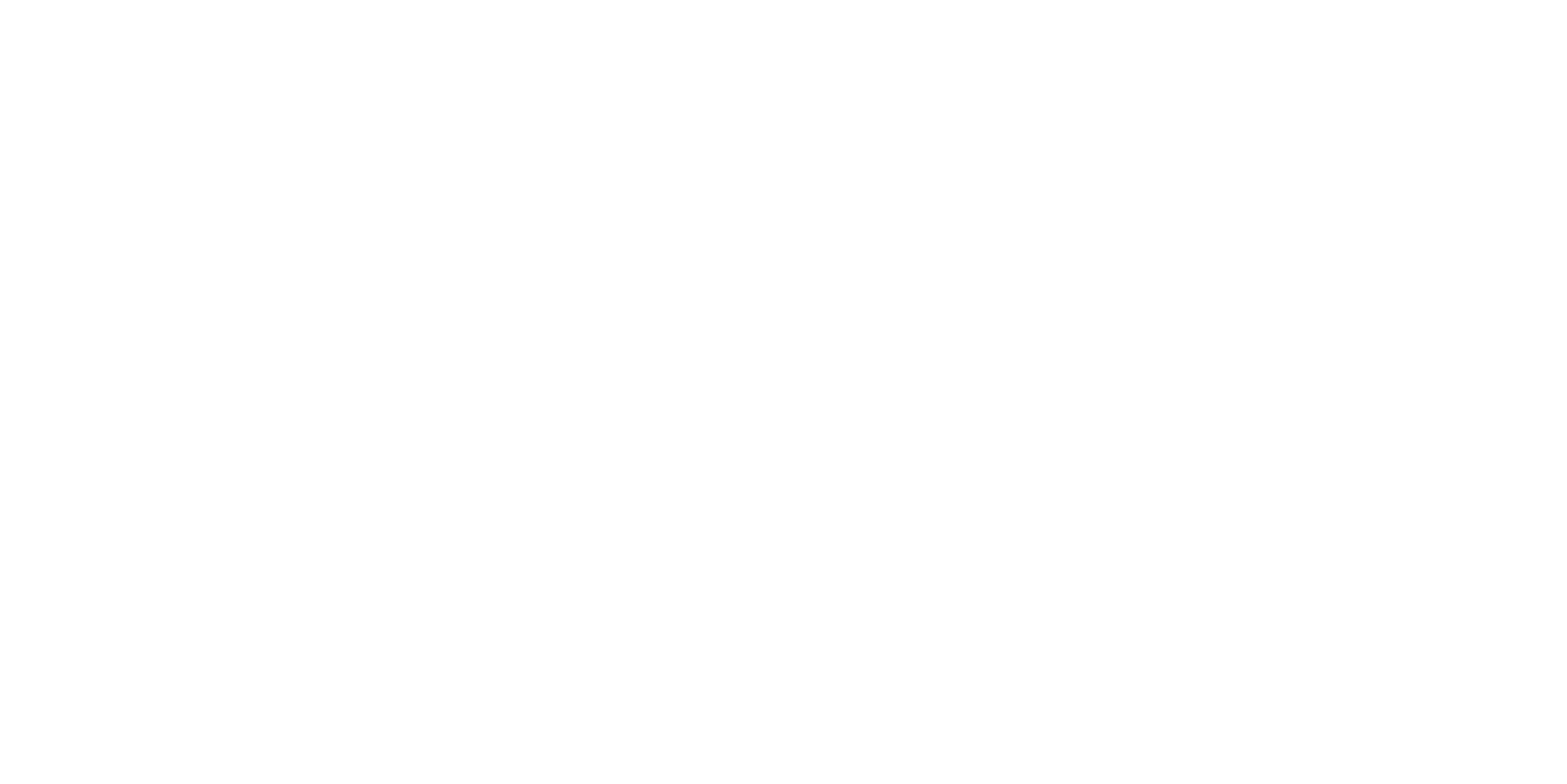
Можно выделить три ключевых фактора в организации внутренней среды, стимулирующих высокий уровень самоконтроля сотрудников:
Работая с клиентами, они уполномочены делать всё, что считают полезным для них, исходя из целей компании. Но это не полная анархия, как может показаться изначально. Давайте попробуем разобраться подробнее.
В компаниях с низким уровнем самоконтроля клиентский сервис работает по чек-листам, а действия сотрудников чётко прописаны в скриптах. Логика в данном случае базируется на парадигме, что ко всем клиентам нужно относиться одинаково — по единому стандарту.
Но клиенты не одинаковые! У них разные персональные особенности, разные потребности и ожидания.
А теперь давайте подумаем, насколько чат-бот повышает уровень клиентского сервиса?
Если не чек-лист, то как ставить задачу сотрудникам, работающим на передовой линии общения с клиентами?
Доверие в этом случае основано не на чек-листах, а на достаточно широком гайдлайне:
«Ты отлично знаешь, чего хочет достичь наша компания, и твоя задача — становиться ещё более совершенным в тех навыках, которые важны для нас. Поскольку каждый клиент и каждое его обращение уникальны, мы не можем дать тебе единый набор правил, который будет применим к каждой ситуации. Мы можем говорить только об общих навыках, которые помогут тебе выполнять свою работу лучше и получать от неё больше удовольствия.
Компания доверяет тебе делать всё, что важно для клиента, обратившегося к тебе. Если ты следуешь этим двум ориентирам — ты всегда будешь на верном пути. Никто не должен указывать тебе, что делать, но ты обязан постоянно совершенствовать свои навыки и стремиться работать так же хорошо, как твои коллеги. И твой руководитель, наставник и коллеги всегда готовы помочь тебе развиваться и поддерживать успех компании".
Авторы отмечают, что переход от чек-листов к доверию в работе с клиентами значительно повысил и выручку, и количество возвращающихся клиентов.
2. Про дедлайны.
Стандартная практика — это установка временных ограничений на обслуживание каждого клиента, чтобы через менеджера проходило как можно больше обращений, а его утилизация была максимальной. Но практика показывает, что в этом случае страдает качество коммуникации: менеджеры спешат, боятся потерять бонусы или получить взыскание за задержки и невыполнение плана.
Кроме того, порой клиентскому менеджеру не хватает времени, чтобы полноценно разобраться в запросе. Он решает его поверхностно, а затем с тем же качеством переходит к следующему.
Напротив, менеджер, у которого нет дамоклова меча дедлайна над головой, может глубже вникнуть в проблему клиента, изучить её, и следующему клиенту он сможет помочь уже быстрее — независимо от временных ограничений.
А как иначе? Ведь все должны работать эффективно!
В компаниях с высоким уровнем доверия сотрудникам, работающим с клиентами, действует следующий принцип: работай с обращениями настолько эффективно, насколько можешь, чтобы оставалось больше времени для качественного общения с клиентами.
Это может показаться контринтуитивным, не соответствующим традиционным представлениям о процессах и операционных процедурах. Но это действительно работает лучше.
3. Увязка мотивации клиентских менеджеров со стратегией компании.
Как этого достичь?
Практика показывает, что наряду с доверием и признанием профессионализма, понимание значимости своей работы является одним из ключевых факторов вовлечённости команды.
Как обеспечить вовлечённость сотрудников, работающих с клиентами, связав их действия с миссией компании?
Авторы предлагают четырёхшаговую логику:
- Доверие сотрудникам.
Работая с клиентами, они уполномочены делать всё, что считают полезным для них, исходя из целей компании. Но это не полная анархия, как может показаться изначально. Давайте попробуем разобраться подробнее.
В компаниях с низким уровнем самоконтроля клиентский сервис работает по чек-листам, а действия сотрудников чётко прописаны в скриптах. Логика в данном случае базируется на парадигме, что ко всем клиентам нужно относиться одинаково — по единому стандарту.
Но клиенты не одинаковые! У них разные персональные особенности, разные потребности и ожидания.
А теперь давайте подумаем, насколько чат-бот повышает уровень клиентского сервиса?
Если не чек-лист, то как ставить задачу сотрудникам, работающим на передовой линии общения с клиентами?
Доверие в этом случае основано не на чек-листах, а на достаточно широком гайдлайне:
«Ты отлично знаешь, чего хочет достичь наша компания, и твоя задача — становиться ещё более совершенным в тех навыках, которые важны для нас. Поскольку каждый клиент и каждое его обращение уникальны, мы не можем дать тебе единый набор правил, который будет применим к каждой ситуации. Мы можем говорить только об общих навыках, которые помогут тебе выполнять свою работу лучше и получать от неё больше удовольствия.
Компания доверяет тебе делать всё, что важно для клиента, обратившегося к тебе. Если ты следуешь этим двум ориентирам — ты всегда будешь на верном пути. Никто не должен указывать тебе, что делать, но ты обязан постоянно совершенствовать свои навыки и стремиться работать так же хорошо, как твои коллеги. И твой руководитель, наставник и коллеги всегда готовы помочь тебе развиваться и поддерживать успех компании".
Авторы отмечают, что переход от чек-листов к доверию в работе с клиентами значительно повысил и выручку, и количество возвращающихся клиентов.
2. Про дедлайны.
Стандартная практика — это установка временных ограничений на обслуживание каждого клиента, чтобы через менеджера проходило как можно больше обращений, а его утилизация была максимальной. Но практика показывает, что в этом случае страдает качество коммуникации: менеджеры спешат, боятся потерять бонусы или получить взыскание за задержки и невыполнение плана.
Кроме того, порой клиентскому менеджеру не хватает времени, чтобы полноценно разобраться в запросе. Он решает его поверхностно, а затем с тем же качеством переходит к следующему.
Напротив, менеджер, у которого нет дамоклова меча дедлайна над головой, может глубже вникнуть в проблему клиента, изучить её, и следующему клиенту он сможет помочь уже быстрее — независимо от временных ограничений.
А как иначе? Ведь все должны работать эффективно!
В компаниях с высоким уровнем доверия сотрудникам, работающим с клиентами, действует следующий принцип: работай с обращениями настолько эффективно, насколько можешь, чтобы оставалось больше времени для качественного общения с клиентами.
Это может показаться контринтуитивным, не соответствующим традиционным представлениям о процессах и операционных процедурах. Но это действительно работает лучше.
3. Увязка мотивации клиентских менеджеров со стратегией компании.
Как этого достичь?
Практика показывает, что наряду с доверием и признанием профессионализма, понимание значимости своей работы является одним из ключевых факторов вовлечённости команды.
Как обеспечить вовлечённость сотрудников, работающих с клиентами, связав их действия с миссией компании?
Авторы предлагают четырёхшаговую логику:
Условный комитет из сотрудников клиентского сервиса собирается и изучает корпоративные цели компании, чтобы адаптировать их к своему функционалу. Благодаря такой интерпретации, клиентские менеджеры повышают шансы на искреннее принятие целей коллегами.
На втором этапе комитет связывает корпоративные цели с повседневной работой клиентской службы. Как ежедневные действия помогают реализации стратегических задач?
Третий этап — наиболее напряжённый: участники определяют, какие цели и действия клиентского сервиса дают наибольший эффект для компании.
На четвёртом этапе выбранные действия формализуются в конкретные алгоритмы и скрипты. Например: «Определи персональные черты клиента и строй коммуникацию с учётом его особенностей».
Существует распространённое мнение, что люди копируют поведение окружающих. Именно об этом говорит третий фактор развития эмоциональной устойчивости — поддержка команды. Она играет едва ли не большую роль, чем всё остальное. Напротив, токсичная атмосфера убивает любые инициативы по улучшению и обучению.
Что это значит на практике?
Хорошо помогают ритуалы. Вы можете создать регулярный формат встреч, посвящённых клиентскому опыту, который станет привычной частью жизни команды. На таких встречах обсуждаются интересные кейсы, возникшие при работе с заказчиками. Дайте этому формату внутренний бренд, чтобы он стал элементом культуры. Например, инвестиционная компания Fidelity называла такие встречи Spaces.
NPS, CSAT, CES или как измерить клиентскую удовлетворенность
Net Promoter Score (NPS) — всем известная методология оценки клиентской удовлетворённости, в рамках которой клиенту, который приобрёл услугу, задают вопрос: посоветовал бы он эту услугу своему товарищу, другу, коллеге — и просят оценить вероятность такой рекомендации по шкале от 1 до 10.
Customer Satisfaction Index (CSAT) — также распространённая методология, в рамках которой клиента, который приобрёл услугу, спрашивают, насколько он удовлетворён ею в целом, также по шкале от 1 до 10.
А что такое CES?
Эта методология появилась сравнительно недавно, была популяризирована авторами книги и измеряет только один, но крайне важный аспект клиентского сервиса: простоту, с которой клиент может воспользоваться услугой.
Авторы книги отмечают, что чем проще заказать услугу, тем выше её в целом оценивает клиент. С этой точки зрения они находят практически стопроцентную корреляцию между высоким CES и высоким NPS (или CSAT).
На диаграмме это наглядно видно.
Что это значит на практике?
- В календарях сотрудников должно быть выделено время для обмена лучшими практиками. Это такая же важная часть работы, как сопровождение проектов или ответы клиентам. Обмен опытом должен быть официально закреплён и входить в зону ответственности каждого.
- Обмен опытом должен быть организован именно как обсуждение клиентских кейсов. Этому стоит уделять особое внимание во время командных синхронизаций.
Хорошо помогают ритуалы. Вы можете создать регулярный формат встреч, посвящённых клиентскому опыту, который станет привычной частью жизни команды. На таких встречах обсуждаются интересные кейсы, возникшие при работе с заказчиками. Дайте этому формату внутренний бренд, чтобы он стал элементом культуры. Например, инвестиционная компания Fidelity называла такие встречи Spaces.
NPS, CSAT, CES или как измерить клиентскую удовлетворенность
Net Promoter Score (NPS) — всем известная методология оценки клиентской удовлетворённости, в рамках которой клиенту, который приобрёл услугу, задают вопрос: посоветовал бы он эту услугу своему товарищу, другу, коллеге — и просят оценить вероятность такой рекомендации по шкале от 1 до 10.
Customer Satisfaction Index (CSAT) — также распространённая методология, в рамках которой клиента, который приобрёл услугу, спрашивают, насколько он удовлетворён ею в целом, также по шкале от 1 до 10.
А что такое CES?
Эта методология появилась сравнительно недавно, была популяризирована авторами книги и измеряет только один, но крайне важный аспект клиентского сервиса: простоту, с которой клиент может воспользоваться услугой.
Авторы книги отмечают, что чем проще заказать услугу, тем выше её в целом оценивает клиент. С этой точки зрения они находят практически стопроцентную корреляцию между высоким CES и высоким NPS (или CSAT).
На диаграмме это наглядно видно.
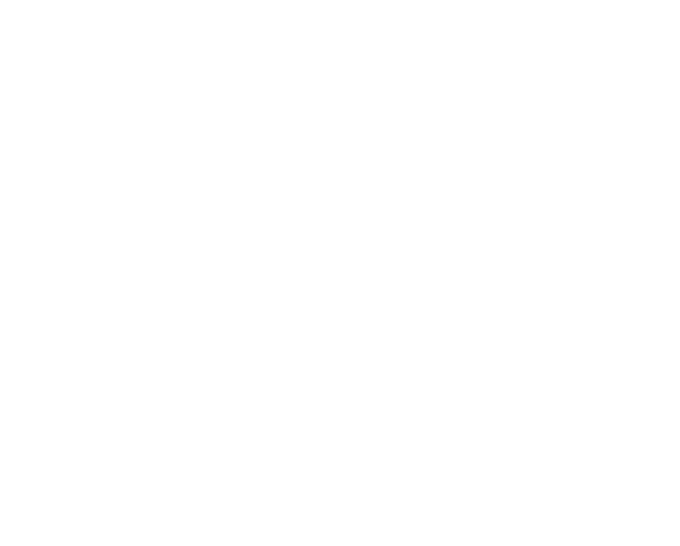
Но зачем понадобился ещё один индекс оценки клиентской удовлетворённости, если уже есть два общеизвестных?
Дело в том, что индекс CES играет наибольшую роль в настройке клиентского пути — того процесса, который клиент проходит при приобретении товара, работы или услуги (извините, если сейчас вспомнили ГК).
Другими словами, у вас может не быть претензий к купленному кофе — он может быть вкусным и ароматным. Но если вы ждали этот кофе 10 минут, официант забывал ваш заказ, а потом вы ещё долго ждали, пока вам не принесли счет, — здесь вы получите хорошие впечатления от самого кофе, но очень неоднозначные впечатления от процесса его получения. Соответственно, CES, который вы бы здесь поставили, будет низким, а NPS — вполне может быть выше, поскольку будет уравновешена качеством самого напитка. В некоторых отзывах об экскурсии в государственные музеи как раз можно встретить подобные оценки: «Сама по себе коллекция уникальна, но процесс обслуживания персоналом — издевательство». Это как раз про разницу оттенков.
Если идти дальше, то при создании продукта вам нужно продумать не только его качественные характеристики, но и клиентский путь, который вы — и никто другой — прокладываете своему клиенту.
Дело в том, что индекс CES играет наибольшую роль в настройке клиентского пути — того процесса, который клиент проходит при приобретении товара, работы или услуги (извините, если сейчас вспомнили ГК).
Другими словами, у вас может не быть претензий к купленному кофе — он может быть вкусным и ароматным. Но если вы ждали этот кофе 10 минут, официант забывал ваш заказ, а потом вы ещё долго ждали, пока вам не принесли счет, — здесь вы получите хорошие впечатления от самого кофе, но очень неоднозначные впечатления от процесса его получения. Соответственно, CES, который вы бы здесь поставили, будет низким, а NPS — вполне может быть выше, поскольку будет уравновешена качеством самого напитка. В некоторых отзывах об экскурсии в государственные музеи как раз можно встретить подобные оценки: «Сама по себе коллекция уникальна, но процесс обслуживания персоналом — издевательство». Это как раз про разницу оттенков.
Если идти дальше, то при создании продукта вам нужно продумать не только его качественные характеристики, но и клиентский путь, который вы — и никто другой — прокладываете своему клиенту.
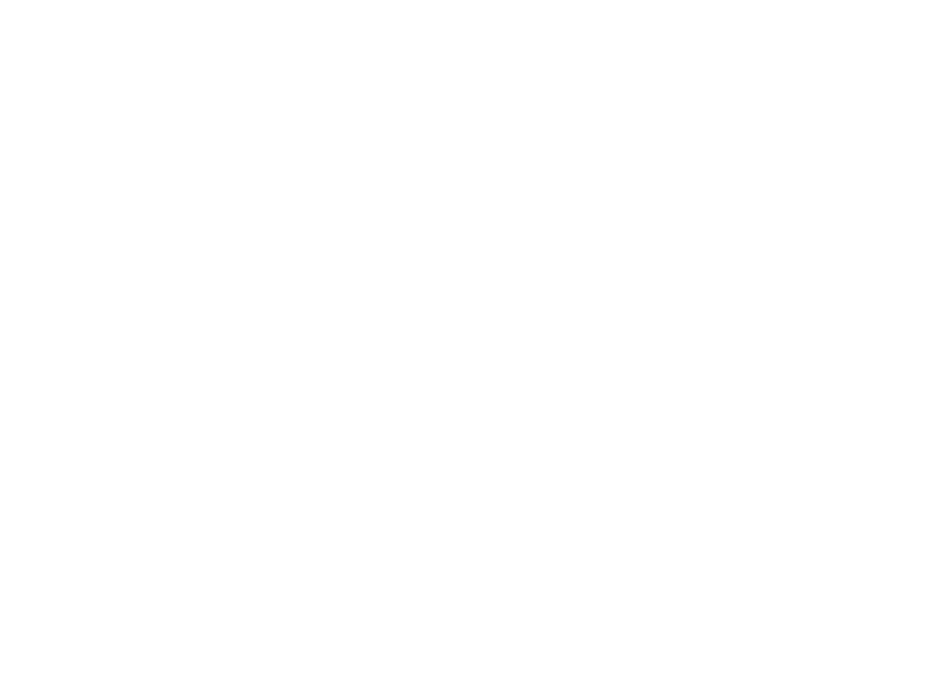
Посмотрите на следующую схему: на вершине этого айсберга — оценка клиентской удовлетворённости в целом (NPS), далее — оценка простоты получения этой услуги (CES), и далее, в основе, — анализ клиентского пути, заключающийся в улучшении клиентского опыта на каждой точке взаимодействия с вами при покупке услуги.
На точке входа в кафе, на точке получения меню от официанта, на точке заказа кофе у него, на точке исполнения заказа, на точке его, извините, выпивания, на точке взаимодействия с атмосферой в кафе, где может быть шумно или тихо, весело или грустно, может звучать хорошая музыка либо какой-то громкий поп. Наконец, на точке оплаты чека.
Все эти точки важны, и каждая из них оставляет какое-то впечатление, которые в итоге складываются в ту верхнеуровневую оценку NPS, которую вы дадите этому заведению после его посещения.
Давайте рассмотрим ещё один пример. Этот дашборд демонстрирует, насколько эффективно работают различные каналы связи. Что мы видим?
На точке входа в кафе, на точке получения меню от официанта, на точке заказа кофе у него, на точке исполнения заказа, на точке его, извините, выпивания, на точке взаимодействия с атмосферой в кафе, где может быть шумно или тихо, весело или грустно, может звучать хорошая музыка либо какой-то громкий поп. Наконец, на точке оплаты чека.
Все эти точки важны, и каждая из них оставляет какое-то впечатление, которые в итоге складываются в ту верхнеуровневую оценку NPS, которую вы дадите этому заведению после его посещения.
Давайте рассмотрим ещё один пример. Этот дашборд демонстрирует, насколько эффективно работают различные каналы связи. Что мы видим?
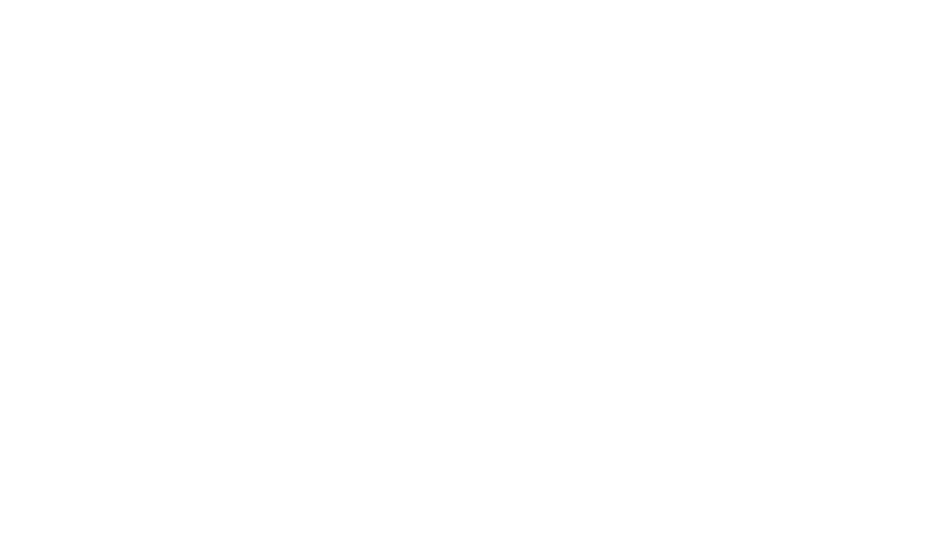
Дэшборд анализирует, как клиенты используют различные каналы связи (телефон, веб-сайт, онлайн-чат, электронная почта) для решения своих вопросов, и каков результат их взаимодействия с первым выбранным каналом.
Какие выводы по нему можно сделать?
Таким образом, телефон — самый эффективный канал, ведь большинство вопросов с ним решается с первого раза, и клиенты редко сдаются или повторно обращаются. Веб-сайт и электронная почта — наименее эффективны: более половины клиентов не могут решить свои вопросы через эти каналы и вынуждены обращаться повторно, чаще всего по телефону.
В итоге, можно выстроить следующую диаграмму, демонстрирующую зоны внимания для совершенствования клиентского пути.
Какие выводы по нему можно сделать?
- Телефон — самый популярный канал, на него приходится 50% обращений.
- Веб-сайт — 36% обращений.
- Онлайн-чат — 5% обращений.
- Электронная почта — 9% обращений.
- Телефон: 89% обращений решаются с первого раза, только 7% клиентов вынуждены обращаться повторно, 7% сдаются.
- А вот с веб-сайтом хуже: только 34% обращений решаются сразу, 53% клиентов вынуждены обращаться повторно, 13% сдаются.
- Онлайн-чат эффективен: 63% вопрос он решает с первого раза, 34% обращаются повторно, 3% сдаются.
- Электронная почта дает самый низкий показатель — только 23% обращений закрывается сразу, а 67% обращаются повторно и 10% сдаются.
Таким образом, телефон — самый эффективный канал, ведь большинство вопросов с ним решается с первого раза, и клиенты редко сдаются или повторно обращаются. Веб-сайт и электронная почта — наименее эффективны: более половины клиентов не могут решить свои вопросы через эти каналы и вынуждены обращаться повторно, чаще всего по телефону.
В итоге, можно выстроить следующую диаграмму, демонстрирующую зоны внимания для совершенствования клиентского пути.
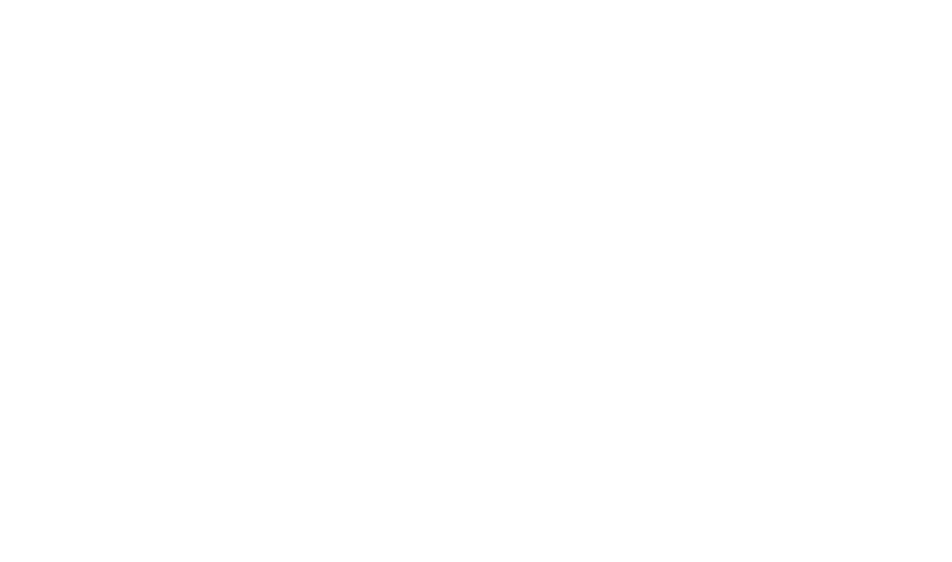
Что мы получаем от этого, и какова связь с простотой получения услуги?
По итогам этого аудита мы видим, где необходимо сосредоточиться, чтобы улучшить клиентский путь и сделать дорогу клиента к продукту более лёгкой. Это может быть путь через веб-сайт, путь через электронную почту, путь через чат-бот. Эти пути стоит либо вовсе закрыть, либо привести их к такому же уровню, как автомагистрали на севере Франции, которые ведут к нормандскому побережью (проверено на практике).
Значение клиентского опыта
Кстати, исследователи приводят интересные данные о значении опыта совершения покупки. Клиентский опыт на 53% определяет лояльность клиента к бренду. Имя бренда, качество продукта, соотношение цены и качества — в совокупности играют не менее важную роль, чем опыт, который получает клиент в процессе покупки, включая помощь при совершении покупки, консультацию по альтернативным вариантам, лёгкость совершения транзакции, а также поддержку на этапах изучения продукта или услуги.
По итогам этого аудита мы видим, где необходимо сосредоточиться, чтобы улучшить клиентский путь и сделать дорогу клиента к продукту более лёгкой. Это может быть путь через веб-сайт, путь через электронную почту, путь через чат-бот. Эти пути стоит либо вовсе закрыть, либо привести их к такому же уровню, как автомагистрали на севере Франции, которые ведут к нормандскому побережью (проверено на практике).
Значение клиентского опыта
Кстати, исследователи приводят интересные данные о значении опыта совершения покупки. Клиентский опыт на 53% определяет лояльность клиента к бренду. Имя бренда, качество продукта, соотношение цены и качества — в совокупности играют не менее важную роль, чем опыт, который получает клиент в процессе покупки, включая помощь при совершении покупки, консультацию по альтернативным вариантам, лёгкость совершения транзакции, а также поддержку на этапах изучения продукта или услуги.
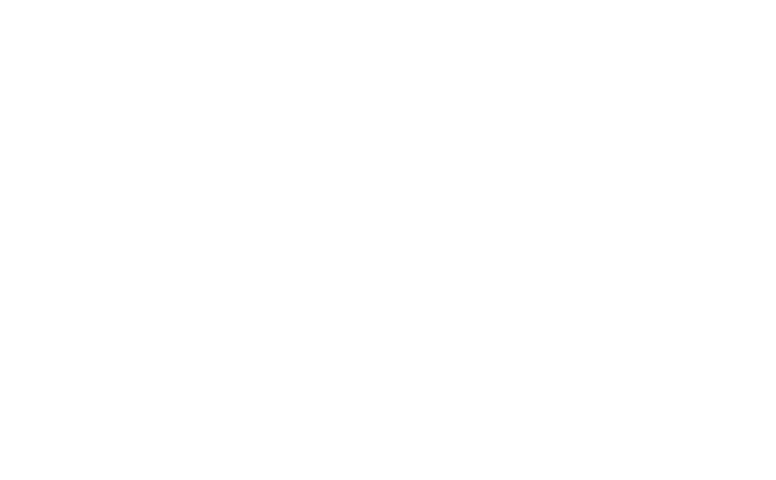
С чего начать внедрение изменений в команде?
Самое главное на первом этапе — зажечь сердца вашей команды. Вот пример того, как может выглядеть ваше обращение к команде при внедрении CRM (ведь нет ничего более скучного).
Самое главное на первом этапе — зажечь сердца вашей команды. Вот пример того, как может выглядеть ваше обращение к команде при внедрении CRM (ведь нет ничего более скучного).
Обращение к команде при внедрении CRM
Коллеги, сегодня я хочу обсудить важное изменение, которое затронет каждого из нас и определит будущее нашей фирмы: внедрение CRM-системы для управления клиентскими отношениями.
Почему это необходимо именно сейчас?
Юридический рынок стремительно меняется. Клиенты становятся более требовательными, ожидают быстрого реагирования, прозрачности и высокого уровня сервиса. Мы уже сталкиваемся с ситуациями, когда простые вопросы решаются через самообслуживание, а к нам приходят только действительно сложные и ответственные задачи. В таких условиях нельзя позволить себе потерять ни одну заявку, ни один важный документ или пропустить срок — это напрямую влияет на репутацию и доверие к нашей фирме.
Как мы работали раньше
Долгое время мы успешно справлялись с задачами, используя привычные инструменты: электронную почту, таблицы, отдельные папки и чаты. Такой подход был оправдан, когда объем обращений был ниже, а задачи — типичнее. Мы могли позволить себе действовать по чек-листу и полагаться на личную организованность каждого юриста. Но сегодня информационный поток вырос, количество каналов коммуникации увеличилось, а требования к скорости и качеству обслуживания стали значительно выше.
Почему старый подход больше не работает
В условиях высокой конкуренции и роста клиентских ожиданий ручное управление процессами приводит к ошибкам: заявки теряются, документы ищутся слишком долго, коммуникация между коллегами становится фрагментированной. Это не только создает стресс для каждого из нас, но и мешает развивать бизнес, теряются возможности для роста. Аналитика показывает: компании, не использующие современные инструменты автоматизации, теряют до 30% потенциальных клиентов из-за неэффективной обработки обращений и рутинных ошибок.
Что даст нам CRM
CRM-система — это не просто база данных. Это инструмент, который позволит: ·
Как мы будем внедрять CRM
Мы понимаем, что любые перемены требуют времени и поддержки. Внедрение CRM пройдет поэтапно: от постановки целей и настройки системы под наши задачи до обучения каждого сотрудника. Мы выберем решение, максимально адаптированное под специфику юридической деятельности, чтобы оно стало вашим помощником, а не дополнительной нагрузкой.
Ваша роль и поддержка
Мы доверяем вашему профессионализму и рассчитываем на вашу инициативу в освоении новых инструментов. CRM даст каждому из нас больше контроля над рабочими процессами, снизит рутину и позволит сосредоточиться на действительно важных, сложных юридических задачах — там, где ценность юриста максимальна.
Это стратегический шаг для всей фирмы. Только вместе мы сможем сделать сервис для наших клиентов действительно лучшим на рынке.
Спасибо за вашу вовлеченность и готовность к переменам!
Почему это необходимо именно сейчас?
Юридический рынок стремительно меняется. Клиенты становятся более требовательными, ожидают быстрого реагирования, прозрачности и высокого уровня сервиса. Мы уже сталкиваемся с ситуациями, когда простые вопросы решаются через самообслуживание, а к нам приходят только действительно сложные и ответственные задачи. В таких условиях нельзя позволить себе потерять ни одну заявку, ни один важный документ или пропустить срок — это напрямую влияет на репутацию и доверие к нашей фирме.
Как мы работали раньше
Долгое время мы успешно справлялись с задачами, используя привычные инструменты: электронную почту, таблицы, отдельные папки и чаты. Такой подход был оправдан, когда объем обращений был ниже, а задачи — типичнее. Мы могли позволить себе действовать по чек-листу и полагаться на личную организованность каждого юриста. Но сегодня информационный поток вырос, количество каналов коммуникации увеличилось, а требования к скорости и качеству обслуживания стали значительно выше.
Почему старый подход больше не работает
В условиях высокой конкуренции и роста клиентских ожиданий ручное управление процессами приводит к ошибкам: заявки теряются, документы ищутся слишком долго, коммуникация между коллегами становится фрагментированной. Это не только создает стресс для каждого из нас, но и мешает развивать бизнес, теряются возможности для роста. Аналитика показывает: компании, не использующие современные инструменты автоматизации, теряют до 30% потенциальных клиентов из-за неэффективной обработки обращений и рутинных ошибок.
Что даст нам CRM
CRM-система — это не просто база данных. Это инструмент, который позволит: ·
- Централизовать всю информацию о клиентах и делах — каждый кейс, документ, история взаимодействий будут доступны в один клик, что особенно важно при передаче дел между коллегами или работе с повторными обращениями. ·
- Автоматизировать рутинные процессы — напоминания о сроках, автоматическая рассылка документов, распределение новых заявок между юристами, формирование отчетов и аналитики. ·
- Соблюдать конфиденциальность — гибкие настройки доступа к информации гарантируют, что данные клиентов защищены на всех этапах работы.
- Повысить качество сервиса — быстрая реакция на запросы, прозрачность процессов и возможность отслеживать статус любого дела в реальном времени.
- Обеспечить управляемость и прозрачность — руководитель сможет видеть загрузку команды, эффективность каждого юриста, финансовые показатели и своевременно принимать решения для развития фирмы.
Как мы будем внедрять CRM
Мы понимаем, что любые перемены требуют времени и поддержки. Внедрение CRM пройдет поэтапно: от постановки целей и настройки системы под наши задачи до обучения каждого сотрудника. Мы выберем решение, максимально адаптированное под специфику юридической деятельности, чтобы оно стало вашим помощником, а не дополнительной нагрузкой.
Ваша роль и поддержка
Мы доверяем вашему профессионализму и рассчитываем на вашу инициативу в освоении новых инструментов. CRM даст каждому из нас больше контроля над рабочими процессами, снизит рутину и позволит сосредоточиться на действительно важных, сложных юридических задачах — там, где ценность юриста максимальна.
Это стратегический шаг для всей фирмы. Только вместе мы сможем сделать сервис для наших клиентов действительно лучшим на рынке.
Спасибо за вашу вовлеченность и готовность к переменам!
А что дальше?
Обычно следующим этапом идёт обучение. Но, по мнению авторов книги, тренинги и обучение дают намного меньший эффект, чем индивидуальный коучинг и наставничество.
Обучение необходимо, но только на первом этапе, чтобы выровнять понимание и дать общий сигнал. Дальше у каждого сотрудника возникает масса индивидуальных ситуаций, и в каждой из них его нужно сопровождать. Это может быть наставничество, трекинг, менторство, коучинг… Назвать можно по-разному, но суть одна: к каждому сотруднику прикрепляется старший эксперт, который помогает ему начать работать по-новому, отвечая на возникающие у него по ходу вопросы.
Такой проводник и помогает во внедрении нового подхода. Без проводника с вероятностью 90% обучение уйдёт в песок.
Рассмотрим, как по-разному может работать этот подход на этапе онбординга
Традиционно адаптация новых сотрудников идет по стандартному принципу «овечья купель» (когда всех одновременно погружают в обучение, а потом отправляют «на пастбище»).
Процесс длился четыре недели, и каждая неделя посвящена изучению новой системы или продуктовой линейки.
Например, на первой неделе новички обучаются работе с системами управления обращениями и телефонией.
На второй — знакомятся с различными финансовыми продуктами компании.
На третьей — проходят обучение процессам обработки звонков, процедурам эскалации и другим тактикам управления обращениями. И так далее.
Для большинства организаций это довольно типичный подход к обучению новых сотрудников. Обычно, когда новички завершают обучение и получают допуск к звонкам, они быстро понимают, что не знают, как правильно вести себя и что делать. На самом деле, в среднем требовалось около семи недель, чтобы сотрудник на линии достиг удовлетворительного уровня работы.
Новый подход с индивидуальным трекингом:
Компания пересмотрела весь свой подход к обучению и адаптации новых сотрудников, решив обучать новичков только десяти самым распространённым типам обращений — от начала до конца.
Поэтому уже в первый день, после знакомства и утреннего кофе, новые сотрудники сразу приступали к изучению, например, как проверять страховую информацию клиентов — это был один из самых частых типов звонков.
Все системы, процессы и продукты были объединены в одну сессию. Как только новые сотрудники обучались обработке десяти самых распространённых вопросов, их сразу отправляли работать с клиентами — но они всё ещё считались «на обучении» до двух недель.
Неизбежно возникали вопросы, с которыми новый сотрудник ещё не сталкивался. Для таких случаев компания разработала умную систему поддержки: сертифицированный наставник по звонкам был закреплён за группой новичков. Этот наставник подключался к звонкам с редкими вопросами. Обычно наставник помогал сотруднику провести разговор, но иногда просто брал звонок на себя, а новичок слушал. В любом случае после звонка наставник сразу обсуждал с сотрудником, что произошло, что можно было сделать иначе и как следовало поступить. Это позволяло гораздо быстрее обучаться работе с необычными или сложными запросами. Если наставник был недоступен, новый сотрудник просто спрашивал клиента, можно ли перезвонить, когда он найдёт ответ.
Компания выяснила, что большинство клиентов нормально относится к такому варианту. Такой упрощённый формат обучения с сильной наставнической поддержкой позволил не только сократить среднее время адаптации до трёх недель, но и добиться того, что сотрудники начинали работать на уровне, значительно превышающем просто «удовлетворительный».
Кстати, когда была написана данная книга, искусственный интеллект ещё не завоевал умы и практику нашей жизни. Но сегодня у любого новичка есть рядом обученный чат-бот, который чётко подсказывает, как отвечать на вопросы. Это если сам новичок работает с клиентами лично, а не заменён инструментами искусственного интеллекта.
Зачастую можно услышать, что у старших сотрудников нет времени на коучинг и наставничество. Однако опыт показывает, что время — это не главный, и далеко не самый важный показатель эффективности коучинга. Гораздо важнее качество, регулярность, компетентность наставника.
Посмотрите на диаграмму, расставляющую все точки по местам. Согласитесь, что это немного похоже на время, проведённое родителями с детьми.
Обычно следующим этапом идёт обучение. Но, по мнению авторов книги, тренинги и обучение дают намного меньший эффект, чем индивидуальный коучинг и наставничество.
Обучение необходимо, но только на первом этапе, чтобы выровнять понимание и дать общий сигнал. Дальше у каждого сотрудника возникает масса индивидуальных ситуаций, и в каждой из них его нужно сопровождать. Это может быть наставничество, трекинг, менторство, коучинг… Назвать можно по-разному, но суть одна: к каждому сотруднику прикрепляется старший эксперт, который помогает ему начать работать по-новому, отвечая на возникающие у него по ходу вопросы.
Такой проводник и помогает во внедрении нового подхода. Без проводника с вероятностью 90% обучение уйдёт в песок.
Рассмотрим, как по-разному может работать этот подход на этапе онбординга
Традиционно адаптация новых сотрудников идет по стандартному принципу «овечья купель» (когда всех одновременно погружают в обучение, а потом отправляют «на пастбище»).
Процесс длился четыре недели, и каждая неделя посвящена изучению новой системы или продуктовой линейки.
Например, на первой неделе новички обучаются работе с системами управления обращениями и телефонией.
На второй — знакомятся с различными финансовыми продуктами компании.
На третьей — проходят обучение процессам обработки звонков, процедурам эскалации и другим тактикам управления обращениями. И так далее.
Для большинства организаций это довольно типичный подход к обучению новых сотрудников. Обычно, когда новички завершают обучение и получают допуск к звонкам, они быстро понимают, что не знают, как правильно вести себя и что делать. На самом деле, в среднем требовалось около семи недель, чтобы сотрудник на линии достиг удовлетворительного уровня работы.
Новый подход с индивидуальным трекингом:
Компания пересмотрела весь свой подход к обучению и адаптации новых сотрудников, решив обучать новичков только десяти самым распространённым типам обращений — от начала до конца.
Поэтому уже в первый день, после знакомства и утреннего кофе, новые сотрудники сразу приступали к изучению, например, как проверять страховую информацию клиентов — это был один из самых частых типов звонков.
Все системы, процессы и продукты были объединены в одну сессию. Как только новые сотрудники обучались обработке десяти самых распространённых вопросов, их сразу отправляли работать с клиентами — но они всё ещё считались «на обучении» до двух недель.
Неизбежно возникали вопросы, с которыми новый сотрудник ещё не сталкивался. Для таких случаев компания разработала умную систему поддержки: сертифицированный наставник по звонкам был закреплён за группой новичков. Этот наставник подключался к звонкам с редкими вопросами. Обычно наставник помогал сотруднику провести разговор, но иногда просто брал звонок на себя, а новичок слушал. В любом случае после звонка наставник сразу обсуждал с сотрудником, что произошло, что можно было сделать иначе и как следовало поступить. Это позволяло гораздо быстрее обучаться работе с необычными или сложными запросами. Если наставник был недоступен, новый сотрудник просто спрашивал клиента, можно ли перезвонить, когда он найдёт ответ.
Компания выяснила, что большинство клиентов нормально относится к такому варианту. Такой упрощённый формат обучения с сильной наставнической поддержкой позволил не только сократить среднее время адаптации до трёх недель, но и добиться того, что сотрудники начинали работать на уровне, значительно превышающем просто «удовлетворительный».
Кстати, когда была написана данная книга, искусственный интеллект ещё не завоевал умы и практику нашей жизни. Но сегодня у любого новичка есть рядом обученный чат-бот, который чётко подсказывает, как отвечать на вопросы. Это если сам новичок работает с клиентами лично, а не заменён инструментами искусственного интеллекта.
Зачастую можно услышать, что у старших сотрудников нет времени на коучинг и наставничество. Однако опыт показывает, что время — это не главный, и далеко не самый важный показатель эффективности коучинга. Гораздо важнее качество, регулярность, компетентность наставника.
Посмотрите на диаграмму, расставляющую все точки по местам. Согласитесь, что это немного похоже на время, проведённое родителями с детьми.
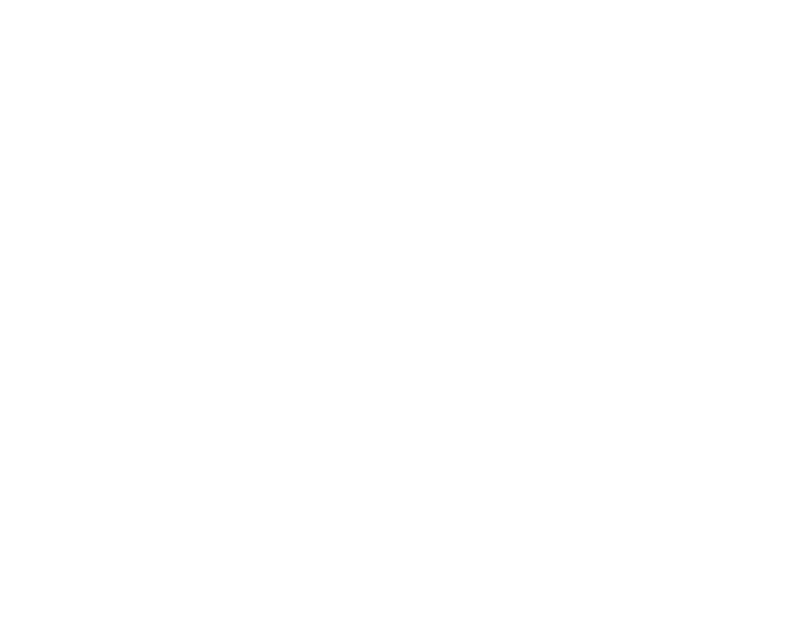
Ещё один интересный факт — какой формат коучинга более эффективен: регулярный или возникающий по запросу?
Практика показывает, что регулярные коучинговые сессии менее эффективны, чем спонтанные, когда у сотрудника есть конкретный вопрос, и наставник помогает его разрешить, давая конкретный ответ:
Практика показывает, что регулярные коучинговые сессии менее эффективны, чем спонтанные, когда у сотрудника есть конкретный вопрос, и наставник помогает его разрешить, давая конкретный ответ:
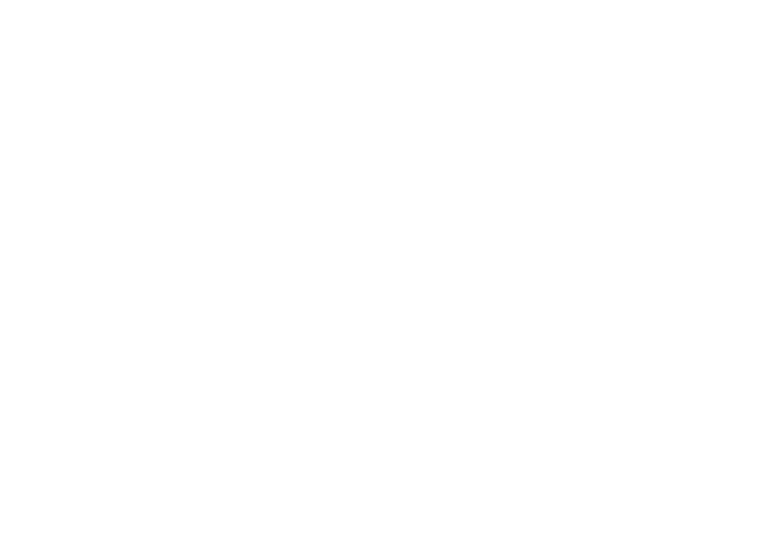
Однако это совсем не исключает запланированных сессий наставничества. Их важно сочетать со спонтанным коучингом. Спонтанный может занимать 75% времени, а запланированный — 25%.
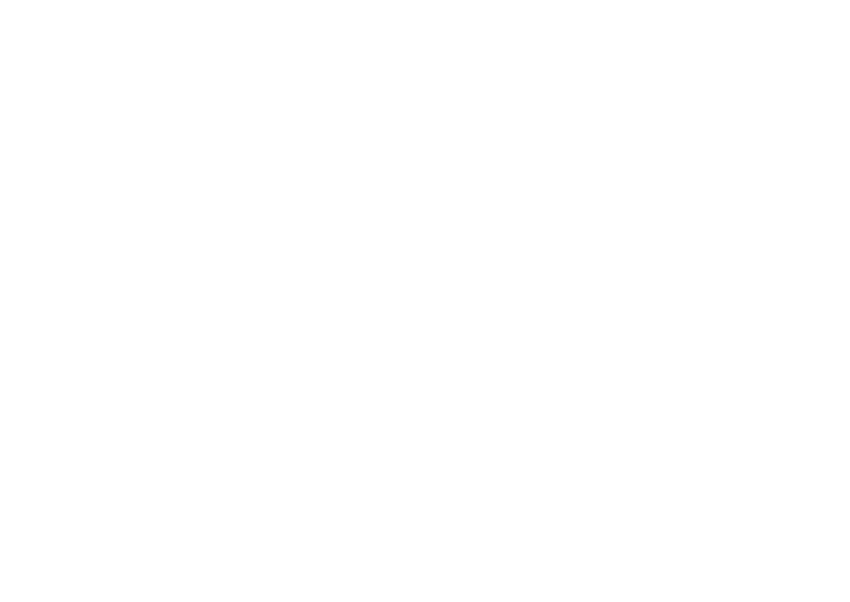
АКАДЕМИЯ юридического менеджмента
/ ближайшая программа обучения /
Осенний марафон Юридического менеджмента
14 сентября —14 декабря
Программа обучения, построеная в формате конструктора.
Вы можете приобрести как полную программу обучения, так и отдельные модули, наиболее актуальные для Вас сейчас
Вы можете приобрести как полную программу обучения, так и отдельные модули, наиболее актуальные для Вас сейчас
модуль 2. менеджмент договорных процессов
модуль 3. менеджмент судебной функции
модуль 4. управление юридическими проектами
модуль 5. управление юридической командой
Финиш. очный выпускной в москве
Старт. модуль 1. Менеджер по юридическим операциями
ООО «Юридический менеджмент. Альтернативный провайдер юридических услуг», ИНН 9 703 118 524, КПП 770 301 001, ОГРН 1 227 700 762 475, 123 242, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 7
Чтобы быть в курсе событий, новинок и специальных предложений
О нас
Социальные сети
Клиентам
Подписаться на рассылку
Контакты

